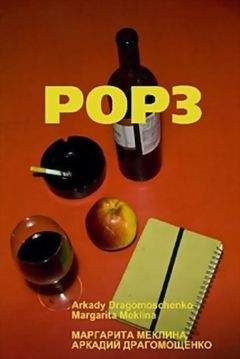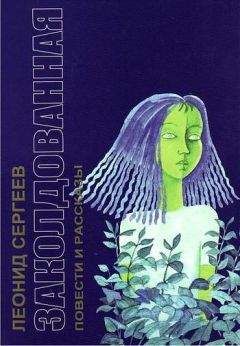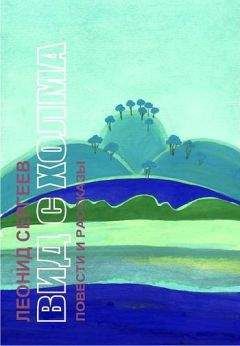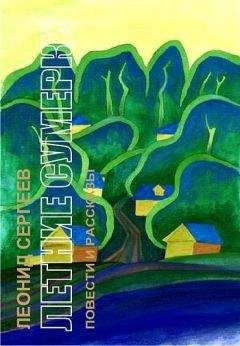Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 10 2004)
Идею пришлось надолго отложить, но хоронить ее никак не хотелось. В начале 90-х, когда художественная жизнь еще волновала широкую публику, а объединенная Германия изо всех сил старалась дружить с Россией, Туровская сумела увлечь замыслом экспозиции-сопоставления Ирину Антонову, директора Пушкинского музея. Умная и деятельная Антонова сразу оценила перспективы проекта, подключила к нему с немецкой стороны Йорна Меркерта, и, придя к полному взаимопониманию, они сделали, что называется, выставку десятилетия. Ее готовили несколько лет; ее увидели 600 тысяч человек. Когда кураторы “МБ-2” сравнивают свою работу с безусловным триумфом “МБ-1”, кажется, что они втайне обижены чужим успехом: и ситуация у Антоновой с Меркертом была лучше, и задача проще, и вообще они занимались не искусством, а культпросветом… “Мы не стремились сделать выставку художественной энциклопедией двух стран. <…> Не будет никаких дивертисментов по поводу истории театра, никаких экивоков по поводу ГДР и ФРГ, России и СССР. Это просто выставка визуальных искусств…” (Павел Хорошилов); “Здесь история рассказана в терминах искусства. <…> Здесь встречаются произведения разных стран, разного времени — выставка не построена по школьно-хронологическому принципу” (Екатерина Деготь). Вежливые немецкие кураторы Юрген Хартен, Ангела Шнайдер, Кристоф Таннерт прямо в каталоге сообщают, что “они не были готовы работать <…> над культурно-историческим репортажем, уместным скорее в историческом музее”. Впрочем, это уже относится не столько к “МБ-1”, сколько к внутренним разногласиям кураторских “троек” (третьим с нашей стороны был Виктор Мизиано).
Как бы ни подчеркивался “мирный характер” этих разногласий (“Дискуссии продвигали нас вперед” и проч.), очень понятно, что они были существенны. “В Берлине было представлено 500 произведений, 180 авторов. В Москве — около 400 произведений и 130 авторов”, — говорит Павел Хорошилов, беседуя с Татьяной Андриасовой (“Московские новости”). О чем он не говорит, так это о том, что из берлинской экспозиции в московскую перекочевало лишь двести работ с небольшим (в каталоге они помечены буквами “БМ”; мои подсчеты дали цифру 208).
Не из-за возродившейся цензуры, как легко было бы подумать, и даже не из-за денег (перевозка, страховка и проч. — дело дорогое); Хорошилов, Мизиано и Деготь решили делать в Москве свою выставку, весьма отличную от берлинской. В ее формировании немецкие кураторы участия не принимали. И это было только справедливо: когда создавалась “берлинская версия”, наши кураторы могли лишь что-то посоветовать, но ничего не решали.
Все это, в общем, закономерно. Как только отбрасывается в сторону упорядочивающий “школьно-хронологический принцип”, как только идея сопоставления культур и их взаимной “смыслопроводности” (рабочее понятие В. Н. Топорова) заменяется игрой в более или менее содержательную “перекличку артефактов”, в более или менее мнимый, заведомо вымученный диалог отдельных, произвольно выбираемых произведений, договориться ни о чем невозможно. Я не говорю уж о том, что смысл в таких диалогах, возникающих лишь благодаря кураторскому куражу, присутствует редко, что они напоминают не лермонтовский разговор звезд, а тютчевскую беседу глухонемых демонов.
Многие из писавших о “МБ-2” отметили безусловную удачу: в сопоставлении брутальных солдат Гелия Коржева (“Поднимающий знамя”, “Старые раны”, “Солдат”, “Раненый” — замечательные образцы “сурового стиля” 60-х годов) с батальным полотном Георга Базелица (“После битвы I”, 1998; картина “С красным знаменем” до Москвы не доехала, а жаль) действительно рождается некий новый “третий смысл”. Он тяжел и властен, он поневоле заставляет вспомнить идею “коллективного героизма”, безжалостную по отношению к отдельному человеку, — и поневоле признать ее жизнеспособность. Но таких смыслопорождающих диалогов мало до слез.
Можно долго спорить о том, кто из российских и немецких художников наиболее значителен и репрезентативен для 50-х, 60-х и всех следующих годов; можно в итоге совершенно разойтись во мнениях (хотя “совершенно разойтись” все-таки вряд ли получится). Претензии на объективность могут быть оправданными или неоправданными, но как только исчезает сама тяга к объективности, исчезает и предмет для спора. Обмен мнениями превращается в столкновение капризов, и ни один из них не лучше и не умнее другого: умных капризов не бывает.
Кураторские разногласия, как я понимаю, привели к тому, что каждый из людей, отвечавших за судьбу “МБ-2”, в итоге стал чрезмерно высоко ценить свои собственные вкусы и свою субъективную правоту. Не то беда, что выставка получилась нескладной — иной она не могла получиться. В изобразительном искусстве второй половины ХХ века выстроить систему параллелей “Россия — Германия” гораздо труднее, чем в первой. Что поделаешь, устраивать мешанину времен и стилей понудила не прихоть, а нужда. Беда в том, что выставка (во всяком случае, ее “московская версия”) получилась беззастенчиво позерской: она так наглядно демонстрирует амбициозность самоутверждающихся кураторов, что это никак не могло выйти невзначай. Своеволие стало главным принципом построения экспозиции.
Утверждается право на самоопределение вплоть до отделения от реальной истории искусства: что хотим, то и выставляем, как хотим, так и вешаем, почему — потому. Вы разве не прочли в названии: здесь представлено не искусство второй половины ХХ века, а “современный взгляд” на это искусство? Вы разве не поняли? Слово “современный” в данном случае должно означать: а) это взгляд, уничтожающий историческую перспективу, видящий “прошлое” только в плоскости “настоящего”; б) он сосредоточен на субъективно интересном и умеет не замечать общезначимое; в) пристрастность и предвзятость — не недостатки, а естественные свойства этого взгляда: они-то и делают его “современным”; г) это наш собственный, кураторский взгляд, и ничей больше. И если вы не согласны видеть мир нашими глазами, вам незачем ходить на выставку.
Мы не то чтобы согласны, но по залам все-таки погуляем.
Коммунальное хозяйство. Московская выставка разбита на десять блоков, именующихся: “Возвышенное”; “Старые раны”; “Повседневность”; “Космос”; “Социальная пластика”; “Соты”; “Мифы”; “Террор добродетели”; “Атака клоунов”; “Тревога”. В Берлине, как я знаю, названия были другими, но тоже все начиналось с “Возвышенного” и кончалось “Тревогой”. За пределами выставки как таковой (со второго этажа Исторического музея нужно подняться на третий) существует зал “Архивы”. Там непрерывно работала шеренга мониторов и была пара вещей, заслуживающих отдельного разговора: “История русского искусства — от русского авангарда до московской школы концептуализма” Вадима Захарова и “Кафе Германия” Йорга Иммендорфа, и Павел Хорошилов советовал начинать поход по “МБ-2” именно с этого зала: “Девять экранов с хроникой событий сразу же заставляют публику почувствовать атмосферу эпохи, которую многие из нас еще хорошо помнят”. Помним, помним — и советом пренебрежем. Начнем с начала.
При входе на лестницу: справа — фанерный самолетик с человеческим лицом, трогательно уткнувшийся в землю. Повсюду валяются обломки, некоторые уже сметены в угол. Кто это? — ясное дело, Икар (хотя мог бы быть и Гастелло): один из героев “Гибели богов” Бориса Орлова (род. в 1941). С какой стати сын Дедала причислен к богам, не очень понятно, ну да пусть.
Над первым пролетом — ба! Вещь известнейшая: два старых генсека, наш Брежнев и гэдээровский Хонеккер, самым похабным образом целуются взасос. В начале 90-х Дмитрий Врубель (род. в 1960) изобразил этот экстаз геронтофилии на Берлинской стене, переписав по квадратикам фотографию из какого-то журнала. Эффект был потрясающий: граффити Врубеля вошло в историю не только художественной, но и политической жизни двух стран. Люди корчились от смеха и выли от ненависти, а Митя, блаженствуя, все кокетничал: да я ничего, я просто увеличил фото…
Теперь это холст 70ґ95, поверху и понизу идет надпись: “Господи! Помоги мне выжить / среди этой смертной любви”, все актуальные значения сами собою упразднились, но вещь работает. Смешно, противно, жутковато, невыносимо (рассматривать больше трех минут не рекомендуется).
Чем и подтверждается несоизмеримость личного таланта с любым из легиона существующих стилей. Последовательный концептуалист Врубель воспроизвел фотку с максимально доступной для него точностью и больше ничего с ней делать не хотел. Как в его работу просочилось то, что она теперь излучает, — не знаю ни я, ни сам художник и вообще никто не знает. Мне скажут: дискурс; я отвечу: на фиг. Мне скажут: для концептуализма (и еще многих “измов”) “одаренность”, “вдохновение”, вообще вся эта романтическая гиль не имеют права на существование. Я отвечу: значит, все это существует без вашей санкции. Может быть, действительно не стоит делить людей на “хороших” и “плохих” (главный лозунг эгалитаризма: “ты ничем не лучше, чем я”), но на одаренных и бездарных — необходимо. Законы, действующие в жизненной практике, неприменимы к практике художественной: это всем известно, но почему-то именно аксиомы постоянно нуждаются в повторении.