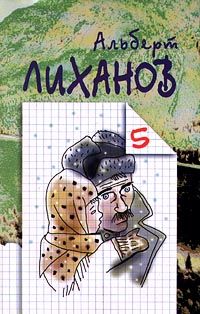Евгений Дубровский - Лесной шум
А огромная река, величественно развернувшись широкой серебристой дорогой, изгибом откинула почти необозримую отмель—песчаную, желтую, гладкую. На ней сотни луж и ни одного кустика. Тут можно спокойно есть и спать: ни с какой стороны никто никак не подберется.
И утиная стая, шумно свистя крыльями, низит над длинной котловиной, наполненной водой, проносится над ее поверхностью, возвращается и, убедившись, что никакой опасности не угрожает, шлепается на воду.
Ба! Да тут уже сидят, полощутся раньше прилетевшие станицы: кто чистится, кто ест, кто спит, сидя на берегу или покачиваясь на стоячей воде. Бегают кривоносые кулики, гуляют длинноногие журавли, стадо гусей бормочет в уголке заводи. Вдруг тревога: по середине реки плывет чудовище. Оно оглушительно ревет железным голосом, пыхтит клубами дыма, на нем видны люди! Ужас! Селезень, переживший лишь весну своей жизни, уже взлетел, но прежде чем унестись, взглянул на бывалых парней из прошлогодних: те даже не шевельнулись. Эка невидаль—пароход. От него вреда не будет. А насчет того, чтобы человек или собака не подобрались, так вон сторожевой стоит, старый селезень в полном блеске оперения, в расцвете сил и опыта. Он сыт, упитан так, что не увлекается едой, он так силен, что любого из молодых может, взяв за шею, оттаскать, как утенка, и, стрелянный не раз, он смотрит зорко, слышит чутко. Вот если он, зашипев, поднимется, ну, тогда не зевай, лети за ним во все крылья!
Через какой-нибудь десяток дней и молодой селезень вылинял, сбросив скромный наряд серо-коричневых перьев. Голову его покрыл темнозеленый бархат, на шее засверкал белый галстук, круглые края крыльев стали сизыми, а грудь малиновой.
Как раз к этому времени пошли дожди, ночи потемнели, удлинились и очень похолодели, червяки, лягушки почти исчезли. Плохо стало с едой. Не рыбу же ловить кряковому селезню! А бывалые парни, видимо, собирались куда-то удрать, судя по тому, что все шептались, посматривая на сторожевого. И потому, когда красавец-старик, зашипев, поднялся, а за ним шумно и крикливо потянулся длинный табун, то и молодой щеголь, не желая остаться один, полетел за ним, сам не зная куда и зачем.
Море. Чрезвычайно странный вид, совсем не такой, как над родными болотами: там на необозримой зеленой равнине лишь кое-где блестит вода, а тут никакой зелени, кроме зелени волн с пенящимися гребнями, тут вся равнина вода. Можно опуститься и поплавать, но—еще странней—воду эту нельзя пить: она отвратительна. Вдобавок из нее высовываются какие-то зубастые морды, глотающие взрослых уток, как мух, и, наконец, в такой воде, оказывается, утка может утонуть. Неожиданно налетевшим шквалом так трепануло их табун, заснувший вплавь на солнечном припеке, так стало хлестать волнами, что сотни задохнувшихся уток безжизненными вереницами, качаясь, поплыли по волнам. Но вожак, шипя, полетел навстречу ветру, неутомимо размахивая точно железными крыльями, за ним плотной тучей понеслись отборно сильные, крепкие: все слабое отпало, осталось там, на пенистых волнах.
Стреляли в утиные стаи часто, когда они летели над землей; попадали редко. Но в пасмурные, ненастные дни, когда в воздушной вышине все полно туманной мглой сырости, трудно там лететь, тогда утиная стая снижалась, и вот тут случались несчастья: некоторые кувыркались вниз на землю, где стукали выстрелы. А остальные, раздавшись на миг, пока свистел убийственный огненный вихрь, вновь теснились в ряды и крича продолжали нестись к югу, посылавшему им навстречу приветные волны тепла.
О, лазурное небо, лазурный воздух, лазурное море! О, нега жарких лучей! О, благоухания невиданных широколистых трав! Вот он, роскошный, лучезарный юг!
Забыто все: и угрозы зимы, и тягостный перелет, и многие опасности во время пути. Здесь отдых, полное спокойствие, бесконечное богатство разнообразного корма, тут рай безмятежного существования. Веселыми шумными ватагами рассыпались утиные стаи в тростниках вечно тихих водоемов. Конечно, неприятности случались. Зубастые морды высовывались и тут из тины, хватая зазевавшихся уток не хуже, чем те в морской глубине. Подкрадывались и четвероногие воры, похожие на лисиц. С хриплым клекотом кружили в воздухе огромные ярко-пестрые ястреба. Но редко кто попадал в зубы или когти хищников из птиц, изощривших огромным перелетом свои силы и сторожкость.
Один безоблачный день мелькал за другим, все жаркие, беззаботные, обильные дни. Иногда даже томила нега душных темных ночей. Когда промелькнуло их с полсотни, вдруг старый вожак оттаскал, избил до полусмерти двух молодых селезней без всяких к тому причин, кроме того, что молодые попались ему, когда он почему-то был не в духе. Это происшествие послужило началом ряда драк, возникавших из-за пустяков, просто от безделья. Ругань на всех утиных наречиях повисла в воздухе, причем кряквы, конечно, громче всех орали во все горло: «кря-кря-кря!» Дождь, ливший потоками несколько суток, прекратил брань, но смутно и сильно напомнил всем что-то очень важное, внушавшее тревогу, и после дождя положение затуманилось совсем.
Утки, державшие когда-то под крыльями утят, стали крякать долго, настойчиво, как будто подзывая выводок. А его не существовало. Иная пожилая утка, плывя в совершенном одиночестве, оглядывалась, ища за собой живую цепь плывущих вертлявых пуховых комочков, и, убедившись, что за ней никто не плывет, выбиралась на берег, крякая жалко, тоскливо. Некоторые из наиболее опытных подплывали или неожиданно, как с неба сваливались, слетали к разряженным в яркие перья селезням и покрякивали ласково, нежно, тихонько, ободряюще, как бы намекая на что-то. Одному молодому кряковому красавцу, отличавшемуся могучим изгибом шеи, досталось от опытных уток даже несколько щипков. Что ж, он дурак, что ли, чурбан, урод бесчувственный? Нет, он не хуже, если не лучше других, но он решительно не понимал, чего от него хотели, и равнодушно продолжал шелушить, засовывая в воду темнозеленый клюв. Впрочем, неосторожно подвернувшемуся селезню свиязи, красавцу с каштаново-бархатной головой и в белоснежном жилете, он тут же ни за что дал сильнейшую трепку. Тот, вырываясь, кричал, пищал, вертелся, наконец вырвался, взлетел в вышину и, трепеща от бешенства, вдруг издал лишь ему из всех утиных свойственный крик, роскошный из двух колен заливистый свист, звенящим хохотом радостно несущийся весной из-под облаков.
Сигнал? Конечно, нет. Конечно, то был бессознательный крик. Но он ответил на тот призыв, который уже дрожал в миллионах существ, истомившихся в зное ночей. Наступил тот миг, когда все они, увидавшие свет жизни в свежем воздухе севера, вдруг почувствовали непобедимую потребность вновь окунуться в волны этой прохлады. Крылатые станицы поднялись, равнодушно покинули чрезмерно роскошные богатства пищи и тепла и понеслись в унылые мхи болотистых тундр.
Теперь они летели в недосягаемой вышине, часто над облаками. Обильный корм, поглощаемый в течение многих дней покоя, собрал в их существах такие запасы сил, что крылья неустанно махали день и ночь. Бодрящее дыхание северных льдов неслось навстречу, пронизывало сладостным холодком, заставляло содрогаться, но оно манило, привлекало.
Среди ночного мрака во время перелета над морем вдруг заблистал странный сильный свет. Солнце? Нет, оно восходит в алом сиянии зари или исчезает среди красных облаков, а тут брызжут снопы ослепительно бледных, холодных лучей. Станицы птиц снижаются и с налета бьются о каменные стекла маяка. О, какой крик, какой ужас, сколько искалеченных и мертвых падает к подножию башни! Более недоверчивые, осторожные взмывают кверху и продолжают, как-то разбирая направление, лететь во мраке туда, где цель жизни таится в смутном очаровании, силе которого невозможно противостоять.
Снег лежал сверкающими полями, дыша холодом, дул резкий ветер, ночной заморозок щипал за лапы так, что приходилось, прервав дремоту, взлетывать, крякая от боли, и по едва оттаявшим закраинам почти нечего было есть. Но среди голодных невзгод вдруг ясно озарило всю жизнь то, что издали манило смутно. Ах, эта неизъяснимо-прелестная судорога любви! Для всех живых она ярче солнца, заманчивее света, сильнее голода, нужнее воздуха, дороже жизни. И охваченные волной весенней страсти птицы поняли, зачем сквозь бури, голод и смерть они прилетели на север.
Утиные стаи разбились. Селезни, так недавно вполне хладнокровные, в бешеной жажде обладания преследовали уток, а те, слегка убегая, как бы уклоняясь от неистовых ласк, уступали им, трепеща от наслаждения.
В лазурной вышине, трубя точно в серебряные трубы, неслись станицы лебедей, гоготали гуси, курлыкали журавли, — им путь был еще далек, их еще манило, им предстояло то, чего утиные пары уже достигли.
Селезни яростно трепали своих подруг, не пропуская случая уцепить и одиноко пролетавшую утчонку. О, как горько это было видеть той, что избрала его своим супругом на всю жизнь! Но как быть? Он так хорош в великолепии весенних перьев, что ему поневоле прощается его неукротимый характер.