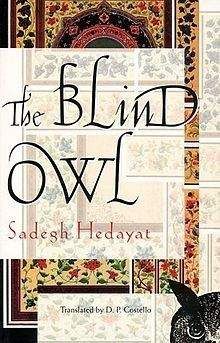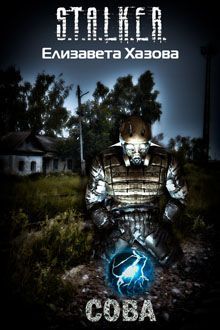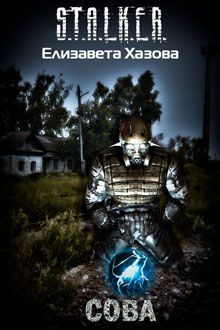Сергей Алексеев - Мутанты
Тем паче – кто бы принял его покаяние? И грех отпустил?..
– Я ушел в Россию, чтоб возглавить Донское казачество, – чистосердечно признавался батько. – А потом стравить его с хохлами и посеять хаос. Потому что ненавижу весь этот мир! Потому что в детстве был болезненным, слабым, и меня все обижали. Я так же ненавижу Гитлера, потому что на войне погиб мой дед. Но я подражал ему! Я читал «Майн кампф» и оправдывал Мазепу, Петлюру и Бандеру – в знак протеста против всего лживого мира! Потому что не знал другого способа, как бороться с лицемерием! И как протестовать против унижения и обиды, которым подвергается маленький, ну, очень маленький, но живой человек…
Да кто бы стал вдаваться в тонкости психологии и тайны человеческой души, когда на кон был поставлен тоннель, приносящий реальный и осязаемый доход?
Потом он отчаялся и замолчал. И Лях замолчал, глядя на батько единственным уцелевшим глазом. А их долго били ногами, в том числе и по голове, но насмерть не забили, полуживых погрузили в кузов «Газели» и долго куда-то везли по тряской, доставляющей невыносимую боль дороге. Или, может быть, не по дороге, а густым лесом или широкой степью.
И выбросили на какой-то поляне, на территории, государственную принадлежность которой уже было ни за что не установить.
На этом оторванном от мира пятачке они ползали по кругу вдоль лесной опушки, плевались кровью, время от времени озирались полуслепыми затекшими глазами и вопрошали неизвестно у кого – возможно, у Бога:
– Где я?
– Кто я?
* * *Все-таки заманила, зазвала и увела Сова мужиков из-под стены – кому мухоморов посулила, кому наркоза и еще чего-нибудь парного, горяченького, как в прачечной. Юрко сразу же в подпол залез, дескать, в темноту ему надо, чтоб третий глаз отдохнул. У него и впрямь он закрываться стал, прищурился, как у якута, и все время слеза набегала. Может, поэтому на Оксану даже не взглянул и сразу к козлу с козой, которые опять сидели в подполе – тоже, видно, понравились друг другу в темноте. Дед наркозу принял и спать завалился, а в это время к куровской хате целая процессия подкатила на трех машинах, одна из них – «скорая» с незнакомыми врачами, должно, из Харькова, или еще откуда пригнали. Сам депутат приехал с автоматчиками, поэтому бабка в окно глянула и сразу же за «вальтер» – подумала, внука забирать явились. Затвор передернула и под передник – другого-то оружия нет.
А оказалось, это за американцем приехали, и сразу же отлегло.
Доктора к Джону кинулись, давай трогать его, щупать, слушать, укол поставили. А он под наркозом был – так спал себе, как ребенок, шептал все: леди, леди, – и ничего не почуял. Потом санитары с носилками вошли, погрузили его и понесли в машину. Тут гордый депутат снизошел и говорит:
– За спасение жизни гражданина Соединенных Штатов и важной персоны от имени президента объявляю вам благодарность.
Только не сказал, от какого президента, хотя это было все равно.
И нет бы натурально поощрить – почетной грамотой, премией или ценным подарком, раз отличились, но куда там! Можно сказать, ограбили: автоматчик один бабку все оттеснял от депутата и, ненароком прижавшись к ней, обнаружил под фартуком «вальтер». Да ловко так выдернул, словно карманник кошелек! И сразу себе забрал. Да еще вроде как арестовать хотел, мол, не готовили ли вы покушение на жизнь депутата? Дурак такой – если б готовила, так давно бы завалила. Депутат вступился, не велел трогать старуху, дескать, несолидно – объявить благодарность и тут же в тюрьму тащить. Но пистолета не вернул.
Американца на носилках впихнули в «скорую», мигалки включили, сирены и умчались. А Сова погоревала минуту, что опять разоружили, да спохватилась, что Юрку мухоморов посулила. Взяла лукошко, наказала Оксане, чтоб козла не выпускала, и побежала за село, в лесополосу, где этих ядовитых грибов было полно. Идет, выбирает которые поярче и покрепче, и уж полную корзину собрала, хотела возвращаться, но смотрит, а на земле одежа валяется, почти новая, крепкая, и хромовые сапоги тут же разбросаны. Поглядела вокруг, покричала – никого. И подумала: что такому добру-то пропадать? Сейчас хромачей днем с огнем не сыщешь. Ну и что, что немного ношено? Постирать, почистить… К тому же всей амуниции как раз пара, можно деда с внуком так приодеть – красавцы будут. Собрала, связала в узел, сапоги через плечо повесила и вернулась с богатой добычей.
Оксана только глянула на одежду, так почему-то ругаться стала:
– Бабушка, зачем вы это тряпье принесли?
– Брошено было, – обескуражилась Сова. – Ты погляди, какая мануфактура добрая. А хром!
– На ком-то я такую одежду видела, – задумчиво проговорила Оксана. – Только не припомню, голова не соображает…
А когда заметила лукошко мухоморов, то и вовсе возмутилась:
– А это зачем вы набрали?! Это же мухоморы, ядовитые грибы!
– Юрко просил, – испугалась бабка. – Для лечения глаза…
– Какого глаза?!
– Третьего. Говорит, мухоморы помогают. Не знаю только, пожарить ли, а то, может, салатом сделать, лучком да маслицем приправить…
– Каким маслицем, бабушка? Вы что, внука отравить вздумали?
– Так как же его еще лечить-то? – окончательно сникла старуха.
Но довести этот медицинский консилиум им не дали, поскольку к хате подкатила еще одна процессия с машиной «неотложки». На сей раз в дверях оказался Дременко, за которым маячили белые халаты.
– Где американец? – заозирался голова. – Я «скорую» пригнал… Вы куда дели Джона? Ксана?
– Опоздал, сват! – с сердитым задором сказала Сова. – Его демутат увез. Ишь, забегали!
– Это правда, Ксана?
– Успокойся, тату, правда, – откликнулась та. – Тебе вредно волноваться.
– А ты что тут торчишь? – сурово спросил Тарас Опанасович. – Почему с женихом не поехала?
– С каким женихом?
– С Джоном!
Он все еще стрелял глазами по хате и вдруг замер, окостенел, словно пораженный столбняком, и синеватые, чисто выбритые его щеки начали покрываться щетиной.
– Что с тобой, тату?
Дременко потянулся рукой к одежде и сапогам, брошенным на пол:
– Это у вас… откуда?
– Опять оружие нашел? – ощетинилась Сова. – Нету больше!
– Одежда батьки Гуменника откуда? – просипел он. – Вы что, раздели его? И разули?!
– Прям, сейчас! В лесополосе нашла. Хочешь, так забирай! Тарас Опанасович в состоянии почти транса прикоснулся к галифе, словно к священному одеянию:
– Батько! Батьку вбылы! Батьку Гуменника вбылы!
– Почему сразу убили-то? – заметила бабка. – Крови нету, ни пулевых, ни осколочных пробоин. Я же все осмотрела. С убитых – так ни за что бы не взяла. Видно же, снято и брошено. Когда немцы драпали, тоже снимали…