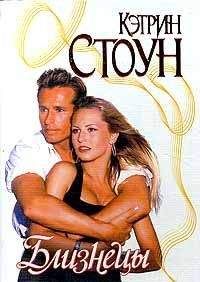Владимир Топилин - Остров Тайна
Чтобы попасть гусю в шею или голову на расстоянии от семидесяти саженей и дальше (подплыть к стае ближе случалось не так часто) с покачивающегося на воде плота в плавающего на волнах гуменника, необходимо было иметь большое мастерство. Для этого был нужен не только острый глаз и твердая рука, но и опыт, приобретаемый с количеством выстрелов. Промахнуться и выпустить дорогостоящий патрон в воздух у охотников считалось позором, вспоминаемом при любом удобном случае острым словом.
К гусиной охоте на плоту глава семьи допускал своего сына или зятя тогда, когда тот без промаха попадал в шею бегающей по двору курице. Соответствующий образ жизни – охота с детских лет – был нормой. Мальчики брали в руки ружье в том возрасте, когда могли поднять его и приставить приклад к плечу. И садились на плот стрелками в тринадцать, редко в четырнадцать лет.
Перечетом у гусиноозерцев считалась экономия дорогих зарядов. Перед охотой отец давал каждому из сынов определенное количество патронов, которыми он должен был отстрелять столько же гусей. Если гусей оказывалось больше, это и считалось перечетом. Секрет заключался в том, что стрелок одним выстрелом убивал сразу двух гусей, выжидая, когда они вместе попадут шеями или головами в прицел винтовки. Двойной перечет – три гуся.
Искусство меткой стрельбы у юношей награждалось ценными подарками: сладостями, одеждой или обувью. Если происходил перечет, отличившемуся покупали новую рубаху или штаны, в случае двойного перечета – сапоги или овчинный полушубок. В редком случае, когда кто-то одним патроном убивал трех гусей, дарили новую винтовку.
В такие времена, при массовом перелете северной птицы, с плота два стрелка за одно утро могли добыть до пятидесяти гусей. Добычу держали в ледниках, потом обозами доставляли в Енисейск, далее – в Красноярск. Купец Горюнов хвастался тем, что возил северных гусей по железке «аж в сам Петербург!» Так это или нет – история умалчивает, но правда то, что гусь оценивался высоко. За одну голову битой птицы Горюнов давал пять копеек. По дореволюционным временам это были большие деньги. Для сравнения: корова стоила десять рублей, конь – пятнадцать. Старательная семья уже за две недели могла заработать себе на дорогую животину.
Горюнов всячески поощрял и стимулировал охотничий промысел гусиноозерцев. Бывало, вытащит на берег стол, наложит на него всякой закуски, поставит граммофон, заведет музыку. Выпьет кружку медовухи, рыкнет на всю факторию:
– Кто самый храбрый, смелый и меткий? Того золотым червонцем награжу!
Дарил! Было дело. Каждый год лучшему стрелку на Покров дорогую монету давал. Сохранилась такая монета и у Захара Уварова. Он получил ее за то, что однажды из пяти патронов подстрелил двенадцать гусей. Не стал Захар менять монету на товар, сохранил на память.
Передохнул дед Захар в очередной раз, снова потянул за весла. Вперед не смотрит, сидит спиной к противоположному берегу. Зачем смотреть, когда он знает дорогу? Вот с правого борта вдалеке светятся редкие огоньки колхоза «Рыбак». Значит, деду нужно поворачивать еще левее, к ветлужьему мысу, за ним появится глубокий лиман. Это и есть вотчина рода Ушаковых.
Хорошо знает он эту семью. Глава Филипп Тихонович женат на его сестре Анне. Их сыновья: Степан, Михаил и Андрей сейчас на фронте. Дочери Катерина и Ефросинья, его племянницы, замужем, живут отдельно от стариков на фактории колхоза. Единственная опора и помощь Филе и Анне – приемыш Иван. Но и его скоро должны взять на войну.
Дед Захар сделал еще несколько взмахов веслами, опустил их в воду. Этой весной ему отметили семьдесят пять лет. Много это или мало, он сам не знает. Давно стал замечать, что его ноги стали тяжелее, весла на лодке длиннее. Даже березовый веник в бане будто подменили на лиственничный. С некоторых пор уменьшил размеры ведер, чтобы было легче носить воду от озера к дому.
Не только в плавании через озеро, но и по стрельбе проходили состязания. На расстоянии в пятьдесят аршин, от причала к мысу, на веревке мимо берега тянули лодку. В лодке стоял большой ящик с кромками, на который клали куриное яйцо. Стрелок из лодки у берега, до этого употребивший в стакан на три пальца водки, должен был в него попасть. Стрелять разрешалось разными способами: лежа, с колена, стоя. Каждый из своей винтовки. На это состязание купец Горюнов давал участникам по три патрона.
Вот где был азарт!.. Поддерживая стрелка, люди на берегу кричали, свистели, торжествовали, негодовали, смеялись. Если стрелок попадал в яйцо с первого раза, Горюнов наливал ему полный стакан водки и разрешал залезть в свой мешок с патронами: «Сколько загребешь рукой – все твое!». Попал со второго раза – купец наливал ему полстакана, к мешку допускал руку его жены, с третьего – лил на два пальца, а за патронами лез ребенок. Если не попадал вовсе, Горюнов наливал водки на палец, но патронов не давал.
Тех стрелков, которые не попадали по яйцу, было мало. Поэтому довольны оставались все. После стрельбы продолжались другие всевозможные игрища: тянули веревку, бегали с завязанными глазами по загону за курицей, лазили на столб за сапогами, тянули телегу с бабами. Да и других забав немало. Под вечер жгли костры, плясали под гармошку. Весело! Обычно это происходило на Троицу, когда Горюнов прибывал со свитой на Гусиное озеро. Начало лета. Ни охоты, ни рыбалки. Люди отдыхали три дня, между собой называя их «купеческими». Вот где настоящий праздник!
Вспоминая, дед Захар с тоской качал головой: «Где все? Вроде и недавно происходило, но ушло, будто таймень в глубину озера».
Старый рыбак взялся за весла, мягко надавил на них. Лодка послушно пошла вперед.
Найденыш
Вот и знакомый мысок. Совсем немного осталось. Еще несколько взмахов веслами и – залаяли собаки. В глубине лимана загорелся крохотный огонек: керосинка на столе в доме Ушаковых. Филя с Анной теперь всегда дома. Далеко ходить сил не хватает. Лишь бы Иван на усадьбе был, не ушел в тайгу по своим промысловым делам.
Шустрый Иван на ногу, острый умом, крепок телом. Погонит лодку – весла ломаются. Видел дед Захар, как он мешки с мукой на амбар закидывает, подивился его силе.
Десять лет назад Степан и Михаил во время охоты как-то проходили мимо старообрядцев, остановились неподалеку попить чай. Пока костерок налаживали да воду грели, от скита, из-под частокола, по грудь в снегу, мокрый, холодный, весь в слезах выполз мальчик лет восьми. Стал он просить братьев забрать его с собой, потому что жить в монастыре не мог. Может, Степан и Михаил не взяли бы ребенка, но, выслушав его, прониклись всем сердцем. Из рассказа выяснилось, что ребенок православный, из ссыльной семьи, которую держали на острове Тайна среди непроходимых болот в Верхней тайге. В начале зимы от повального голода умерли люди. Они с теткой ушли из бараков в болота. Помнил медведя рядом с собой, когда тот начал рвать с него одежды, своих спасителей, староверов.
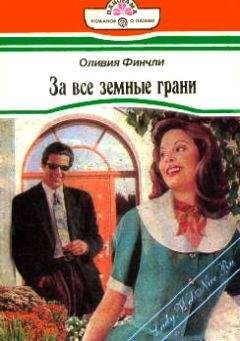
![Роман Артемьев - Минимальное воздействие [сборник рассказов]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)