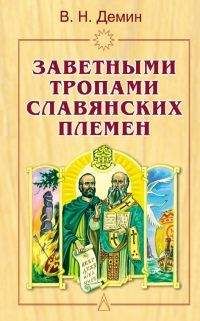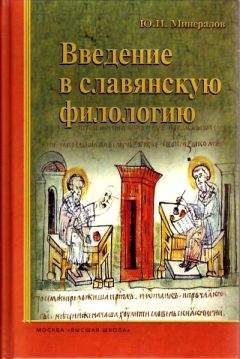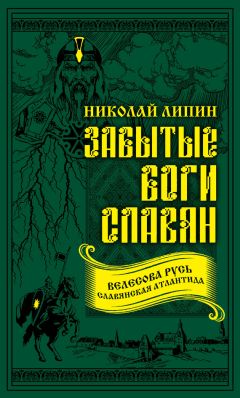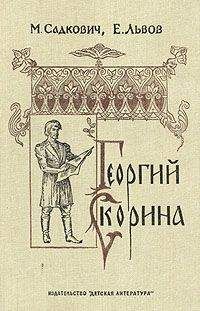Ладислав Баллек - Помощник. Книга о Паланке
Речан молча слушал угрозы черноволосого толстячка парикмахера с холеной белой кожей и в белом халатике с оттопыренными карманами и предпочитал не возражать — в конце концов, он даже не знал, что произошло. Он не осмеливался спрашивать его об этом, считая, что вызовет новый взрыв негодования. Парикмахер все не мог успокоиться, размахивал у Речана перед носом коротенькими ручками, распространяя запахи духов и кремов, вертел головой, топал ногами, скалил длинные зубы и настолько не мог справиться с напором слов, что просто давился ими. Временами он задыхался, делал движение ножкой, словно уже готовился к отступлению, и беспомощно прикладывал руку к своим вытаращенным черным глазам, так что мяснику было искренне его жаль. Они слезились, были печальными и, несмотря на всю злость, умными и человечными.
Волент вел себя по отношению к парикмахеру нагло, он невзлюбил этого обычно кроткого, всегда педантично одетого человека. Сегодня, как оказалось, Волент не мог попасть из коридора в лавку. Металлическую дверь заело. Иногда с ней такое случалось, но обычно достаточно было дать ей пинка — и все в порядке, но сегодня ему этого делать не захотелось. Волент не стал стучать, чтобы Речан открыл ему. Да он и с дверью-то устроил инсценировку. Просто ему вдруг загорелось чего-то натворить, обратить на себя внимание, устроить какой-то спектакль. Он всегда был немножко актером, и, если видел много народа, ему хотелось показать себя. Вот и теперь у него мелькнула, как ему казалось, блестящая идея. Он поднял говяжью ляжку на плечо и вышел на улицу. Запер ворота и, потоптавшись, спутал направление (он сделал это по всем правилам, будто случайно) — ввалился с говяжьей ляжкой в парикмахерскую, вызвав там настоящий ужас. Повертевшись всласть среди пришедших в панику дам, он покинул салон. Женщины долго не могли опомниться, высыпали вслед за парикмахером на улицу все, кроме двух, которые сушили волосы под колпаками. Одна из них, правда, тоже вскочила, но провода не отпустили ее далеко, она зашипела от боли и плюхнулась обратно в кресло.
Этот хулиган совершенно нарушил жизнь салона. Он его осквернил! Махал кусищем сырого мяса среди цветов и ароматов. Орал, топал сапожищами. Неслыханно! Он разрушил всю утонченность связей между ним (Шютё был, как он утверждал, потомком некоего француза, который забрел сюда лет сто тому назад) и его клиентками, лучшими дамами города, чувствительными и нежными душами, которые в жизни своей никогда не видели так близко от себя сырого мяса. Они сидели там, убаюканные чуткими пальцами парикмахера, тихо лелея свои утонченные мечты, приятно усыпляемые атмосферой этого салона красоты, красоты, и только красоты, да, и, наверное, любовались через окно витрины утренним солнышком — вдруг вбегает этот хам, негодяй, мужик, пропахший кровью, коровами и свиньями, луком, чесноком… и… и втаскивает на плече кровавую кость, огромную говяжью ляжку! Возмущенные такой мерзостью, дамы тоже кричали на мясника. Этого, дескать, так не оставят их супруги, отцы, друзья дома, нет, ни за что не оставят!
Когда Речану удалось успокоить парикмахера и публику, он вернулся к своей работе, продолжая быть со всеми приветливым, словно ничего не произошло. После обеда Волент извинился перед мастером, сделав вид, что все это его огорчает, но тут же начал потешаться над тем, как он всполошил в парикмахерской этих баб. Он радовался, что в Паланке снова о нем заговорят: «Слышали, Волент отчебучил! Честное слово, его ничто не изменит… Этому все нипочем! Настоящий паланкский гентеш! Ему и море по колено! Ну, скажу я вам, хорошенький он устроил спектакль, когда вбежал в салон с говяжьей ляжкой на плече! Вот это гусь, никто с ним не сладит: ни суд, ни жандармы».
Больше в это лето глупостей он не выкидывал. Речан даже удивлялся такой перемене. Но как только вернулась жена хозяина, поминай как звали его покорность, тоску и желание ладить. От них не осталось и следа.
Все началось сызнова.
— Не чавкай! — сказала она с отвращением.
Он перестал жевать, и за столом воцарилась напряженная тишина; вдруг в коридорчике раздался звонок. Это подал голос телефон, непонятный ящичек из красного дерева, который появился на стене вскоре после возвращения женщин. Речан избегал его, считая барской выдумкой, забавой, и ни разу к нему не прикоснулся, сколько бы тот ни трезвонил. Звонок у телефона был требовательный, Речану всегда чудилось в нем что-то зловещее, вроде вести о пожаре, наводнении, но, как бы у него ни замирало сердце, как бы звонок ни волновал его, трубку Речан не брал, предпочитая уходить в сад или наверх, в свое кресло. Он с удовольствием испортил бы телефон, но уважение к творению рук человеческих не позволяло ему этого сделать. У него в голове не укладывалось, как это могут люди разговаривать, не видя друг друга. Сам он, ему казалось, не смог бы разговаривать без прямого контакта с говорящим.
Жена встала и ушла. Он слышал ее голос:
— Ал-л-л-ооо! Извините, кого? А! Привет! Привет, привет, дорогая… а я подумала, что это опять почта… Что слышно? Да? Подумать! Да… да… Ну конечно, конечно, дорогая, как мы договорились… Хорошо, Трудика, конечно…
Звонила Гертруда, жена Винтиера Люборецкого, оптового торговца скобяным товаром, с которой они часто перезванивались. Речан обрадовался, что хотя бы на минуту избавится от грубых нападок жены. Он не торопился доесть и уйти, это означало бы бегство, что нельзя было допустить. Но окрик его ошеломил.
Жена разговаривала с приятельницей обиняками. Даже вроде бы заговорщически, так что он невольно начал прислушиваться. Но ничего не понял. Сейчас жена уже привыкла к телефону и разговаривала тише, не то что раньше, когда она буквально орала, считая, наверно, что должна силой голоса протолкнуть слова через тонкий провод, а то они не попадут к месту назначения, потерявшись где-нибудь за ближайшим углом.
Речанова и Люборецка познакомились в поезде. Жена оптовика возвращалась с Татр, Речанова с дочерью ехали из родной деревни. (Им долго не хотелось уезжать оттуда, хотя Речан уже дважды высылал им по телеграфу большую сумму денег, которую они растратили на всякие развлечения.) При посадке на поезд, идущий в Паланк, они заметили на платформе молодую разодетую даму. Обе, мать и дочь, решили, что она возвращается с моря, может, даже из Франции, где, наверное, носят такие огромные летние шляпы, темные очки и прекрасные воздушные платья с большим декольте. Женщину эту они знали в лицо, знали и кто она, только еще не успели с ней познакомиться. Люборецка стояла у вагона с незнакомым им молодым человеком в спортивном костюме, в шапочке с козырьком и с мотоциклетными очками и, не стесняясь присутствия нескольких паланчан на платформе и в поезде, держала себя с молодым человеком весьма интимно. Позже она без всякого смущения подсела к Речановой и ее дочке, назвала их «милые паланчанки» и, как ни в чем не бывало, завела веселый разговор. Такая непосредственность поначалу шокирует, но вскоре к ней привыкают, считая знаком особого расположения к собственной персоне. Именно так случилось с Речановой и ее дочкой. Девушка поначалу обрадовалась обществу Люборецкой даже больше, чем мать, потому что в поезде отношения у них с матерью стали напряженными. Дочь еще до отъезда начала догадываться, что в матери происходит какая-то недобрая перемена, поездка утвердила ее в этом мнении, в особенности после того, как мать несколько раз уезжала в Баньску Быстрицу без нее и возвращалась только на следующий день, никак не объясняя своего поведения.
Оказалось, что госпожа Люборецка была вовсе не на море, а в Высоких Татрах. Она без стеснения рассказывала о своих поклонниках, прекрасных развлечениях и прогулках и заразительно смеялась. Это со временем восстановило против нее младшую Эву, но Эву-старшую заставило отнестись к ее болтовне более внимательно. Вскоре девушка пересела от них к окну, но краем уха продолжала слушать о летних похождениях пани Люборецкой, которые ее и уязвляли (она сама не знала почему), и волновали, хотя она старалась внушить себе, что ее это никак не касается. Когда рассказчица вдруг, ни с того ни с сего, начинала беззаботно и звонко смеяться, Эва-младшая, как ни сопротивлялась, тоже не могла не улыбнуться, было в этом смехе что-то естественное, искреннее, лукавое, женское и озорное. И вся ее стройная девичья фигура, головка с коротко стриженными светло-каштановыми волосами, открытое лицо дополняли это впечатление. А когда она не только рассмеялась, но и подпрыгнула на скамье, стало ясно, что в ней скрывается бесенок.
Пока доехали до Паданка, Эва-старшая и Гертруда подружились, хотя что было у них общего? Ничего, даже внешне. В возрасте разница лет в десять. Гертруде еще не исполнилось тридцати, она лучилась весельем и всем своим существом вызывала впечатление летнего воскресенья, буйного, но приятного. Речанова была старше, выше ростом, более степенной, расчетливой и монументальной, но прежде всего — более темной. Обе были красивы на свой манер, а в таких случаях женщины обычно не ладят. Тут же получилось наоборот. Они составляли странную пару, которая взаимно дополняла друг друга. Может, их объединяло равнодушие к супругам? У первой это было легко объяснимо. Люборецки был старше жены по крайней мере на четверть века, а то и больше, развлечения его не интересовали, он был поглощен торговыми делами и домом, хотя в нем не было детей. Жене он предоставлял свободу, может быть, ему было достаточно только ее присутствия, приблизительно так, как нас радует влетевшая в окно бабочка или картинка с ангелочками. Никто о нем ничего не знал, многим казалось подозрительным его имя — Винтиер, в особенности, когда кто-то высказал догадку, что это немецкое имя Гюнтер, переделанное на словацкий лад. После этого паланчан начал мучить вопрос: зачем он явился в Паланк, раз у него где-то там дела шли так хорошо, что он нажил огромное состояние? Странно, правда?