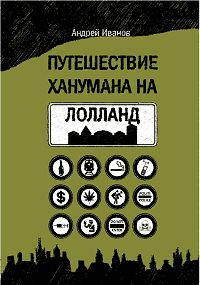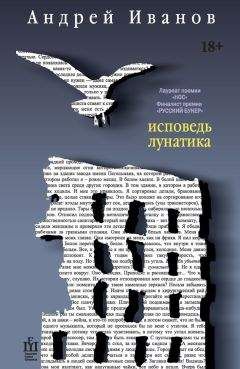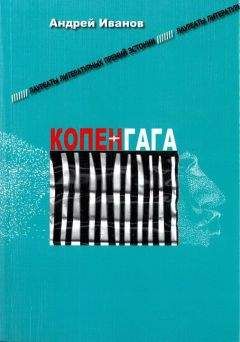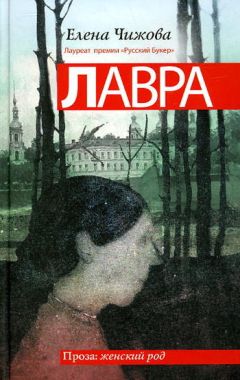Андрей Иванов - Путешествие Ханумана на Лолланд
7
Спустя некоторое время я поехал в Фарсетруп повидаться с Хануманом, который прислал мне ужасное письмо, которое мог написать только безумец. Он писал, что у него начал расти хвост! Прямо из ануса! Это жутко усложнило его жизнь. Столько возникло новых трудностей, связанных с отправлением нужды! Просто кошмар! Из его письма следовало, что хвост уже размером с мизинец, тоненький, хрящеватый, розовенький и очень чувствительный.
«Ты представляешь, Юдж! Что мне делать? Как я буду смотреть в глаза людям? Я заперся и никуда не вылезаю! Я скоро стану настоящей обезьяной, потому что у меня к тому же обильно увеличился волосяной покров! Деформировались кисти! Стал пологим лоб. Смотри, какой у меня стал ужасный почерк! (Почерк и правда был просто ужасный, просто дико ужасный почерк, который затем прервался совсем, встав на рельсы печатной машинки Непалино.) Какая-то злая мутация. Понятия не имею. Никакого объяснения не нахожу, как это произошло? Как такое могло со мной приключиться?! Что могло быть толчком? Может, наркотики? У тебя там как? Нет ничего такого? Никогда не слыхал, чтоб у нас в семье было что-то подобное! Я в ужасе. С каждым днем метаморфоза прогрессирует. Ухудшается артикуляция и работа мозга. Сам видишь, как я ужасно излагаю мысль. Если б ты видел, во что я превратился. Я скоро перестану говорить совсем! О, Юдж, это какое-то наказание! Боги смеются надо мной… Спаси же меня, Юдж!»
Я пришел в ужас от такого письма. Поехал немедленно. Я нашел его все там же, у Непалино. Он лежал в постели. Возле постели на полу стояла пепельница, полная окурков, и кружка чая. Никаких признаков мутации. Подавлен, растерян. Выглядел ужасно. Стал как-то сероват с лица. Глаза его запали. Они были раздражены. Рот его был открыт. В лице тупость. Мне стало не по себе, но он меня тут же успокоил. Подмигнул и сказал, что письмо написал намеренно такое идиотское, в надежде, что его перехватят, прочтут и придут к заключению, что он действительно сошел с ума, окончательно, и дадут ему позитив. Но этого не случилось. Никому не было дела до того, кому и куда он писал. Его письма не перехватывали, а те, что он получал, даже не вскрывали. Он был разочарован: его права не нарушались никак! Он не мог апеллировать в Европейский суд, в Страсбург. Ему не в чем было упрекнуть проклятых датчан. По отношению к Хануману они вели себя безукоризненно. Настолько им было наплевать на него. Настолько они были уверены в том, что его скоро депортируют, что даже не было надобности в том, чтобы давить на него. Все были полностью уверены, что он здоров и скоро будет отправлен домой. Настолько во всех была сильна вера в его скорейшую депортацию, что на Ханумана не оказывалось вообще никакого давления. Давления не было никакого. Не было нужды на него оказывать давление. Зачем оказывать давление на человека, который уже давно морально раздавлен? Зачем давить на индуса, если индус в своем самоуничижении дошел до того, что потерял достоинство настолько, что назвался пакистанцем? Зачем на такого давить? Он уже в доску плоский! Он гладкий, как асфальт немецкого автобана! По нему можно ездить! Его можно запечатать в конверт и отправить в Индию обратно письмом! Настолько он раздавлен! Все просто ждали, когда он сам отдастся в руки властям и сознается в том, кто он такой. И тогда его торжественно, как старичка, отведут к самолету, усадят, похлопают по щеке и скажут: «Гу тур[75], Ханумэн!»
Он пребывал в жуткой депрессии, просто замумифицировался, обложившись подушками, с пятью кружками и чайничком на полу, он курил сигареты, которые приносил ему Непалино, он лихорадочно отбивал обеими ногами мотивы разных песен, шептал себе под нос что-то нескончаемо… Он даже не ходил в туалет, а мочился в ведро, которое выносил Непалино. Увидев меня, он вскричал:
– Как ты вовремя! Моя непальская жена уезжает! Некому поднести спичку несчастному сумасшедшему! – Потом он прошептал мне в самое ухо: – У Непалино есть пиво в холодильнике, но он мне его больше не дает… Сделай что-нибудь!
Глаз его поплыл, как рыбка. Я уловил знакомый отлив; подсел к непальцу, отодвинув его писанину; спросил, куда это уезжает кошачье существо, обнимая его за плечи.
– Неужто мерзавец получил позитив? – спросил я, постукивая того по спине, выбивая из него застенчивую улыбку.
– Нет-нет, какой позитив, что ты! Где ты видел, чтоб непальцам давали позитивы? Он получил депорт! Обычный депорт! Правда? Вот он тебе сам скажет…
Но Непалино молчал, горделиво-задроченно отворачиваясь, подобрал ногу, обхватил колено обеими руками и сидел, набрав в рот воды. Он просто млел, он таял в снопе на него направленных прожекторов мускулинного внимания!
– Что молчишь? Уже третий депорт после всевозможных обжалований, и уже собрал чемоданчик, чтобы ехать в Копен, к своему дядюшке! Не так ли, гаденыш? Бросить меня собираешься? Скрути мне… тоже, – вдруг прервал свою речь Хануман, заметив в моих руках пачку табаку с травкой. Протянул лапку. Я подсел к нему. Дал понюхать. Он долго тянул носом из пачки, с наслаждением внюхиваясь в хвойную пряность.
– Прелесть! – наконец изрек он.
Вдруг вошел наш тамилец; сразу было видно, что он безумен, напуган, он натурально трясся. Он опять был в жестком толстом свитере, заправленном в штаны, а штаны натянул по самую грудь и все подтягивал, подтягивал – он был похож на обоссавшегося ребенка в комбинезоне. Такой у него был озабоченный вид. Я сразу почуял: что-то не то. Он сел напротив нас с Хануманом на постель рядом с Непалино. Тот слегка отодвинулся. Тамилец тут же затараторил что-то на ужасном английском. Я стал рассматривать его: он был худее прежнего, оброс, в воспаленных глазах помешательство, и он все время нес какую-то пургу о Германии, о Фленсбурге, о Франкфурте, о Падборге, о границе, границе, границе; он через каждое слово вставлял principally, и звучало это ужасно, потому что слово упиралось, оно топорщилось у него на губах, как репей, он не мог его разжевать, он сплевывал и начинал сызнова; мне даже казалось, что он вообще говорил только затем, чтоб вновь и вновь повторять это идиотское слово. Понять его было трудно, так как все-таки датских и немецких слов в его английском было больше даже, чем английского, и все-таки это был английский, потому что вся эта германская каша была замешана на английском молоке. «Переработался, – подумал я, – довела конспирация», – и стал разглядывать у него на носке огромной спиралью завивавшуюся стружку.
Я спросил его о работе на фабрике, а он махнул рукой и ушел, ничего не ответив, кроме: «Контрабанда – вот это бизнес!!!» Непальчонок улучил момент и тоже сорвался, шмыгнул вон за тамильцем. Я посмотрел на Ханумана; он сказал:
– Да, трудно нынче даже с помешательством получить гуманитарный позитив; вокруг так много сумасшедших, что никто не воспринимает тебя всерьез; так много психов, что это уже перестали считать серьезным основанием для получения разрешения остаться; такая конкуренция, что можно отчаяться! Каждый, кто получает депорт, тут же оказывается сумасшедшим, и вот уже справки несет, самые настоящие справки! Многие с таковыми уже въезжают и косить начинают на первом же допросе! Некоторые даже до допроса попадают в ментуру через дурку! Они косить начинают в центре города, на пешеходке! Впадают в транс или закатывают истерику! И тогда их забирают… А потом оказывается, что они беженцы… Видишь, как! Да хотя бы этот бенгалец! Он не тамилец, а бенгалец, как установила полиция; прячется здесь нелегально, у него куча денег, а он сидит на них и боится выйти из кемпа! У него самая настоящая паранойя! Ему кажется, что за ним следят! Вон в тех кустах, за окном, ему мерещатся полицейские! Он совершенно себя не контролирует! И у меня уже есть одна идея; может быть, последняя идея, пока я совсем не спятил тут…
– Что за идея?
– Ну какие у меня еще могут быть идеи?.. Я хочу выудить из этого бенгальца все его деньги, попрошу на хранение, да, на хранение, брат, на хранение, скажу, что у меня все надежней, чем в банке, пусть отдаст мне деньги, и я уеду…
– Куда ты уедешь?
– На Лолланд!
– На Лолланд?
– Да, на Лолланд! На несколько дней выйти за рамки, поправить здоровье в бассейнах с коктейлями и девочками… Возьму его деньги и уеду! И он об этом даже не узнает, потому что он уже ничего не соображает; он тут же забудет, все – о своих денежках, обо мне… Он же полный идиот, полный идиот… Вот только я боюсь, что он уже их либо кому-то отдал, либо зарыл где-нибудь и сам не помнит где… Ну, это мы выясним…
– На Лолланд, говоришь?.. Ну и что тебе Лолланд?..
– Говорю же: человеком себя почувствовать хочу… Взять разгон… Вдохнуть полной грудью… Увидать картину целиком… Может быть, что-то прояснится… Ведь возможности лежат под ногами, наклонись и возьми! Столько раз получалось! Надо просто сдвинуться с мертвой точки!
– Понятно… Далековато отсюда… до Лолланда… Сперва до Шилэнда… а это ого-го…