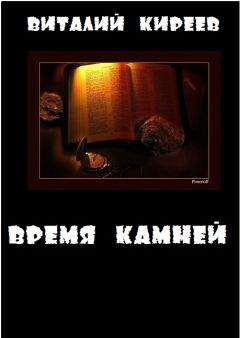Журнал «Новый мир» - Новый мир. № 9, 2003
«Но были и другие факторы, влиявшие прямо или косвенно на то, что я многое в Советском Союзе одобрял и даже принимал с воодушевлением. Какое это было невыразимое удовольствие для нас ездить по стране, где никому не нужно бояться безработицы, — пишет он о своей поездке в СССР. — Именно мы, чье детство и ранняя юность прошли между 1914 и 1924 годами, совершенно по-детски восхищались энергией созидания нового… Надежда, которую я связывал с родиной Октябрьской революции, питалась не утопическим суеверием, а презрительным отвращением к общественному устройству, что 15 лет назад спровоцировало бессмысленную мировую войну, самую массовую бойню в истории, а теперь продлевает свое существование ценой горя и нужды…»
По книге видно, как вместе с писательской зоркостью и человеческими заблуждениями в ней участвует и психоаналитический опыт Шпербера. Вот только один пример.
Однажды на прием к Шперберу в Берлине пришел человек, назвавшийся явно вымышленным именем — Роберт Плонтин. Он — из тех «новых людей», которые не успели вступить в партию до захвата власти, в Гражданскую войну напрямую были связаны с Троцким и командованием Красной Армии и только потом «встали у руля» в госорганах и партаппарате. В глазах генсека и его приближенных Плонтин и ему подобные выглядели опасными. Их давно собирались устранить, но прежде они должны были еще послужить: изменить Троцкому, провести карательные экспедиции, потом получить назначение на опасную работу за границей, где им будет невозможно уцелеть. Так вот, Плонтин, не по своей воле оказавшийся за границей, постоянно мучается страхом за оставленного в России трехлетнего сына и все время видит нестерпимый сон, где его ребенок находится в шайке беспризорников. Шпербер попытался проследить корни этого страха — и в первый раз услышал от Плонтина подробности так называемого «раскулачивания», одним из руководителей которого он был. В операциях против кулаков военная жестокость была так велика, что случилось то, чего никто не предвидел: дети, чтоб не умереть с голоду, убегали от родителей, прибивались в города и рано или поздно оказывались в шайках беспризорных. Однажды Плонтин столкнулся на улице с такой шайкой полуголодных, одичавших сирот и увидел, что самый маленький ребенок, одетый в крестьянскую рубашку, плачет. Не в силах вынести этого зрелища, Плонтин отдал приказ, чтоб всех детей немедленно погрузили в товарные вагоны и отправили на Юг.
Во время сеанса Плонтин рассказал психоаналитику, что война отучила его от сострадания — его, сына еврея-портного из литовского захолустья, который стал дивизионным генералом и начальником штаба армии. «Если бы не война и революция, — признался он, — то мне при невероятном везении удалось бы закончить частную торговую школу и занять потом место бухгалтера в самом крохотном отделении банка где-нибудь в России». «Так вышло, — пишет Шпербер, — что маленький замерзший беспризорный снова пробудил в нем „отмороженное“ сострадание. Дело было не только в его сыне, но и в его собственном прошлом, в страдании ребенка, каким был он сам… он сам себе должен был объяснить и истолковать, чтбо его, мерзнущего ребенка из местечка, привело в революцию и в Гражданскую войну. Он и ему подобные боролись за то, чтобы ни один ребенок больше не мерз, не испытывал нужды и лишений. А вот теперь, через столько лет после победы, он внезапно увидел самого себя, трехлетнего, и тысячи других, чье убожество было несравненно большим, чем бедность, которую он испытал в детстве… Прошлое и будущее связались, сплавились воедино в кошмарах сновидца: и маленький мальчик из местечка под Марьямполем в 1893 году, и умирающий от голода крестьянский ребенок 36 лет спустя, и маленький генеральский сын — они слились воедино, стали одним существом».
(Между прочим, о том, как тирания, стремясь заарканить интеллигенцию, манипулирует тревогой и страхом отца за жизнь маленького сына, оставшегося в заложниках у тирана, — один из самых страшных романов Набокова, «Bend Sinister».)
Если первая часть книги посвящена отходу от социализма, то вторая рассказывает о приближении нацизма, о том, как катастрофически быстро менялось общественное сознание в Германии, какую драматическую роль сыграла позиция компартии Германии (руководимая из Москвы) в стремительном продвижении нацизма… и, в общем, о бессилии несогласных одиночек и о тщетности одиноких предостережений. Шпербер много размышляет о том, почему нацизм обладал такой необычайной притягательностью не только для нищих рабочих и обнищавших мелких буржуа, но и для людей думающих, то есть для интеллигенции. И опять — кто же победил и что победило в России 1917-го и в Германии 1933-го? И во что все это превратилось?
Окончание биографической трилогии Манеса Шпербера (как явствует из предисловия к «Напрасному предостережению») — свидетельство об освобождении от иллюзий целого поколения западных интеллектуалов. Как болезненно близок нам этот опыт — и способен ли он помочь нам в преодолении наших иллюзий или предостеречь от будущих ослеплений? Во всяком случае, будем помнить слова Шпербера: «…кто уже в юности одержим стремлением постичь ход истории, того этот процесс приближения увлекает далеко за пределы собственного прошлого».
Ольга КАНУННИКОВА.Книжная полка Павла Крючкова
Михаил Панов. Олени навстречу. Вторая книга стихов. М., «Carte Blanche», 2001, 192 стр.
«Стихи сами пишутся, когда хотят, про них много не расскажешь», — так знаменитый «ученый, учитель, доблестный воин»[27], легендарный филолог-русист Михаил Викторович Панов говорил о своем существовании в поэзии.
Между прочим, появление книги на новомирской полке, а значит, и на полке личной, домашней вполне может быть иррациональным, но все-таки не должно быть случайным. В «свидании» с книгой для меня ценно и то, от кого протянулась читательская связь, кто — проводник. Иными словами, я признателен Владимиру Ивановичу Новикову — такому же, каким был М. В. П., неистребимому максималисту-тыняновцу, который передал мне этот маленький сборничек. Кстати, если теперь на моем пути окажется человек с устойчивой аллергией к верлибру, к экспериментальному, футуристическому стиху вообще, мне будет чем удивить и порадовать такого читателя. Ибо таинственной свежестью дышат строчки и строфы пановской картины внешнего и внутреннего мира, они совершенно свободны от нарочитых умственных построений и вместе с тем по-обэриутски чуднбы, словно на пути к листу бумаги поэтический импульс несколько раз преломился через призму сверхнового и вместе с тем наследного зрения.
Созданного в годы войны стихотворения «Ночью» в этой книге нет, но я отыскал его в статье Елены Сморгуновой «Целебное действие звуков (частные заметки о стихах Михаила Панова)», написанной в связи с предыдущей книгой «Тишина. Снег»:
Думаю о судьбе русского свободного стиха:
будущее — за ним. И совсем не бескрылый,
не безвольный, вранье: это стих глубокого дыханья,
яркости, крутизны. Блок давно уже это открыл.
Говоря о феномене стихов Панова, Вл. Новиков отмечает их важнейшее качество: абсолютную самостоятельность существования, независимость от остальных текстов-собратьев, когда определение свободного стиха перемещается из терминологического ряда — в образный. В этом есть, наверное, и своя опасность, но, скрепленные единой обложкой или — буже — общим названием (большой раздел здесь называется «В лес за черникой»), стихи все равно вступают друг с другом в сплав по принципу какого-нибудь хлебниковского астрономического созвездия: вроде оно и есть, а вроде его и нету.
А вообще лучшего оправдания (и лучшей защиты) поэтического будетлянства — от почти обожествленного многими Председателя Земного Шара до, скажу от себя, мало кому известного нашего современника Леонарда Данильцева — я и не встречал. Может, это еще и потому, что Панов — действительно вдохновенный учитель? Экспериментально-заумных стихов у него предостаточно, но есть и в них ясная, акварельная прозрачность, зримость картины, сотворенной языком-памятью. А уж — назовем условно — сатирический беспощадный посыл многих из них способен тягаться и с всеволод-некрасовской, и с кибировской музой.
Книга завершается большой поэмой «Звездное небо», где, как пишет в предуведомлении автор, «сделана попытка представить те образные впечатления, которые возникают <…> при чтении русских поэтов». Здесь звук тянет за собой смысл, а интуиция претворяется в определение. Этой поэмой можно заменить любой разговор о поэтическом вкусе и слухе. Более ста ожидаемых и неожиданных имен-стихов, каждое из которых — законченный портрет своей/чужой музыкально-словесной вселенной.
«Жерло пламенеет, сыплет пепел — / под пеплом умирает град. / Тлеет скрытым огнем. / Текут века… В пепле — / пустоты, / где были тела. / Живые пустботы: / страдают, надеются, думают, любят… / Баратынский».