Иэн Бурума - Ёсико
— Когда-нибудь, — сказал он, сияя доброжелательством, как Будда, — мы вернем обратно нашу любимую родину и заживем в мире со всеми: с евреями, христианами, мусульманами. Так всегда было в нашей культуре. Люди говорят, что мы ненавидим евреев. Они неправы. Ненависть к евреям — это европейское изобретение. Мы, арабы, всегда относились к евреям с большим уважением, как к людям Книги.
Ямагути-сан кивала, пока он говорил. Затем вздохнула так, словно была обременена великой печалью. Почему, спросила она Ханако, ее сподвижники так верят в вооруженную борьбу? Разве они не могут отстаивать свои идеалы без насилия? На этот раз пришла очередь Ханако кивать. Она хорошо понимает чувства Ямагути-сан, сказала она с мягкой улыбкой. Но оружие — это правильно.
Последовало неловкое молчание.
Все еще улыбаясь, Ханако продолжила:
— Без оружия у нас не будет настоящей демократии.
— Что вы под этим подразумеваете? — изумленно уточнила Ямагути-сан.
Ханако посмотрела на Бассама:
— Бассам, я тебе когда-нибудь рассказывала историю про пушки Танэгасимы?
Он покачал головой.
— Тогда давай расскажу. В середине шестнадцатого века несколько португальских кораблей встали на якорь близ японского острова Танэгасима. Они много всего привезли с собой — Библии, специи, бисквиты, шелк, вина, атлас, телескопы и мушкеты, два из которых они подарили властителю Танэгасимы. Властитель был сильно поражен этим бесценным оружием и немедленно начал им пользоваться на утиной охоте. У нас, японцев, всегда очень хорошо получалось копировать, а потом улучшать иностранные изобретения. Так вышло и с ружьями. Уже очень скоро кузнецы Танэгасимы изготавливали ружья лучше, чем португальцы. Европейцы не знали, как добиться, чтобы мушкеты работали во время дождя. А мы, японцы, поняли, что нужно сделать. Феодальные властители начали вооружать мушкетами громадные армии из мобилизованных на военную службу крестьян и воевать друг с другом. Великие битвы произошли на равнинах Центральной Японии. Солдаты с обеих сторон маршировали под градом пуль и гибли тысячами. Искусство фехтования стало никому не нужным. Впервые в истории простой солдат из крестьян получил физическую возможность убить высокопоставленного самурая. Даже генерал в полном вооружении был бессилен против крестьянина с мушкетом в руках. И когда самый могущественный сёгун, Хидэёси, объединил нашу страну, он решил положить этому конец. Все оружие, не принадлежавшее самураям, было конфисковано. Самураи снова взялись за мечи, ружья вышли из моды. Через несколько лет народ забыл, что они вообще когда-то существовали. В Японии мы достигли состояния абсолютного мира, который продолжался до тех пор, пока двести лет спустя американцы не вошли в порт Симода на своих знаменитых черных кораблях, груженных пушками и прочим огнестрельным оружием. Но японцы уже тогда помнили о его разрушительной силе так плохо, что тут же уверовали в то, что американские ружья — это волшебная сила белого человека.
Ямагути-сан захлопала в ладоши от удовольствия.
— Какая великолепная история! — воскликнула она. — Она ясно повествует о том, что от смертоносного оружия можно освободиться. Вот почему мы должны поддержать нашу мирную конституцию. Мы должны показать всему миру, что существует лучший способ для решения наших проблем, чем война.
Ханако покачала красивой головой:
— Минутку, Ямагути-сан. — Она бросила быстрый взгляд на Бассаму, водившего по губам кусочком приторной пахлавы. — У этой истории есть продолжение. Да, мы, японцы, смогли избавиться от огнестрельного оружия, это правда. Только добивались этого ценой сотен тысяч жизней в течение двух сотен лет… и в полицейском государстве, которым управляла военная клика. Мы получили мир за счет нашей свободы, но оказались во власти любого человека в чине самурая, который, желая попрактиковаться в фехтовании, мог безнаказанно заколоть простолюдина. Отмена огнестрельного оружия превратила нас в нацию рабов и в легкую добычу для иностранных империалистов.
Я был поражен остротой ума Ханако, логикой ее мысли, чистотой ее убеждений, звуком теплого голоса, изяществом манер. Я любил ее так, как не любил ни одну женщину прежде. Мне всегда казалось, что выражение «любовь с первого взгляда» нелепо, нечто из дешевых романов для девочек-подростков. Но иначе описать свои чувства не могу. Именно так все и было. Искра вспыхнула, стрела пронзила мое сердце. Я хотел поцеловать ее, обнять и не отпускать никогда. Я хотел быть рядом с ней вечно.
Конечно же я не поцеловал ее. Все-таки мы с ней оба были японцами. Когда она по окончании интервью предложила мне на следующий день посетить лагерь беженцев, я трясся, точно желе, и заикался дальше некуда, бормоча слова благодарности. Кажется, я вспотел. Она спросила, все ли со мной в порядке, и протянула носовой платок. Я подумал, что растаю от смущения… и от полнейшего восторга, поскольку общался с ангелом.
Лагерь представлял собой нагромождение маленьких кирпичных домишек с крышами, сделанными из пластиковых мешков или, если кому повезло, из листов рифленого железа. Повсюду валялся неубранный мусор. Стая грязных собак кормилась отбросами из мусорного ведра. Много раз этот лагерь становился мишенью для израильтян. Одетые в лохмотья дети плескались в воронках от сионистских снарядов, наполненных тухлой водой. Выглядело это все, если честно, как настоящий ад на земле. И все же люди улыбались. Все, у кого мы брали интервью, были убеждены, что победа, рано или поздно, будет за ними. Моральная сила этих людей казалась такой абсолютной, что нам становилось стыдно. Здесь каждый мужчина, каждая женщина или ребенок был солдатом. Женщины занимались стиркой, а рядом с тазами стояли прислоненные к стене «Калашниковы». Лет с пяти дети начинали тренироваться, чтобы стать борцами за свободу. Мы видели, как эти храбрые юные солдаты выполняли упражнения с деревянными ружьями.
Ямагути-сан записывала что-то в своем репортерском блокноте, когда к ней подвели молодую супружескую пару, желавшую с ней поговорить. Одеты они были очень просто, церемонно приветствовали нас по арабскому обычаю и спросили, откуда мы. Ханако сказала, что из Японии. Кажется, им это понравилось. Они сообщили, что оба родились в деревне под Тель-Авивом. И хотя они были совсем детьми, когда их по-зверски вышвырнули из родных домов, они никогда ничего не забывали и передадут эти воспоминания своему первенцу, мальчику по имени Халид. Отец, Абу Мухаммед, сиял от гордости, перебирая пальцами короткие черные кудри ребенка.
— Он будет бороться за нашу свободу, — сказал он.
А когда Ямагути-сан спросила, не страшно ли им, что его могут ранить, они взглянули на мальчика с глубокой нежностью. Мать ребенка, Аиша, протянула его Ямагути-сан, и та посадила Халида себе на колени.
— Пожалуйста, прими нашего мальчика как своего, — сказала Аиша. — Ты пришла из страны с древней культурой воинов. Пускай твое благословение будет залогом того, что, когда вырастет, он станет камикадзе и прославит всех нас.
Ямагути-сан, тронутая этим жестом, обняла ребенка перед тем, как вернуть его матери.
— Я всегда буду рядом с ним, если понадобится, — сказала она.
Они записали в блокнот свой адрес. Спустя десять лет маленький Халид и его родители были убиты христианскими фашистами, выполнявшими приказ сионистов. А к тому времени, как мы вернулись в Токио, Абу Бассама, улыбающегося Будду в человеческом обличье, большого любителя кофе и сладкой пахлавы, уже разнесло на куски взрывом бомбы, подложенной в его автомобиль на одной их тихих улочек Западного Бейрута.
Когда мы со слезами на глазах прощались с ним и Ханако, он поцеловал меня и сказал, что я могу вернуться в любое время. И еще дороже для меня стали слова, которые Ханако сказала мне при расставании:
— Я знаю, ты вернешься сюда очень скоро. — И внимательно посмотрела на меня.
Я тоже знал, что вернусь. Я понял, что наконец-то нашел свой дом.
8
После Бейрута я начал испытывать к своей стране стойкое отвращение. Да, наши улицы были чище и поезда ходили строго по расписанию — в фашистских государствах они по-другому не ходят. Миллионы служащих в серых костюмах копошились на станциях, как кролики, каждый вечер возвращаясь в свои жалкие лачуги на окраинах, где жены укладывали их в постель, подоткнув теплые одеяла, — уютно и аккуратно. Это было общество, подсевшее на безопасность, где кроликов-на-зарплате научили ни о чем не думать; общество, в котором больше всего ценилась посредственность без совести, чести и какой-либо высшей цели; общество одряхлевшее и эгоистичное; общество, единственным спасительным выходом из которого стали бездушные порнографические фантазии. И «кролики» были на это согласны. Вот что хуже всего. Они продали свои мозги, свои души. Что же они получили взамен?
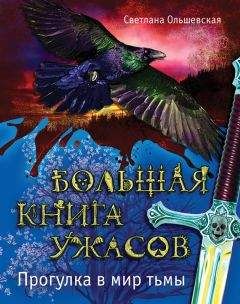

![Андрей Ильин - Бомба для братвы [= Мастер взрывного дела]](/uploads/posts/books/243771/243771.jpg)
