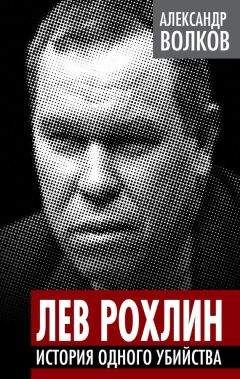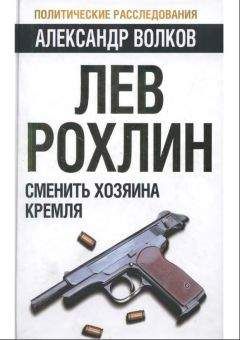Борис Рохлин - У стен Малапаги
Важное отличие поэтического видения от видения Ф. Горенштейна. У поэта Бог «гладит» всех и «любит» всех «с ожогами на коже». Всех и каждого. Без исключения. У Ф. Горенштейна Бог более разборчив. Он любит лишь избранных. Несхожесть Ветхого и Нового Заветов. Разные источники для вдохновения.
Богу всегда предстоит выбор. И выбор всегда предрешён.
И. Кант считал, что достоянием любой религии являются три основных принципа: бытие Бога, бессмертие души и свобода воли. Вселенная Ф. Горенштейна свободу воли исключает. Герой даже своевольничать не может, не говоря о свободе воли, которой не обладает и сам автор. Что важнее. Причинно-следственная связь определяет всё. Это не судьба. Судьба допускает, иногда попустительствует случайности. У Ф. Горенштейна это абсолютный причинно-следственный рок.
Есть чары прозы, мир слов-гурий, и есть могущество, прозаическое тамерланство. И то, и другое искусство прозы, искусство повествования. Но настолько разное, что одно оставляешь за бортом, «бросаешь в набежавшую волну». Другое берёшь с собой и контрабандой перевозишь через Лету.
Все горенштейновские Маруси — тоскливая муть. Блуждание со слюной. Любопытствующий натурализм детства. Из детства выходишь, муть остаётся, и появляется умение изобразить. Изображаешь.
То ли дело в поэме В. Ерофеева «Москва — Петушки» по поводу той же страстишки: «пастись среди лилей». Кратко, точно, исчерпывающе. Высокая поэзия на тему «Высокой болезни». Любовь ведь «Высокая болезнь»? Не правда ли?
Впрочем, Ф. Горенштейн не о любви. Но от этого не легче.
После смерти автора подводят итоги. Это всегда сложно. По разным причинам. Особенно в отношении такого непростого писателя, как Ф. Горенштейн. Трудно сохранить чувство меры, такта, сложно с тональностью. Хвалить и восхвалять, ругать и топать ножкой?
Но вышесказанное — не подведение итогов творческого пути и не статья на эту тему, не оценка и не «курсив мой». Это — не более чем заметки по поводу.
Помню высказывание одного критика. Сейчас Ф. Горенштейна читать скучно, но когда-нибудь его будут читать с интересом. Добавлю, в «Литературных памятниках», если таковые ещё будут издаваться. И с по-академически обширными комментариями — это главное, — которые часто бывают интереснее самого текста.
Один из персонажей «Ста лет одиночества» берёт с собой, отправляясь в Европу через Атлантический океан, «Гаргантюа и Пантагрюэля». Персонаж «Последнего лета на Волге» — Шопенгауэра. Логично.
Один — единственную в своём роде прозу. Антиметафизическую, антиумозрительную, антидогматическую. Другой — метафизику, без которой дня прожить не может.
Шопенгауэр подарил миру юношеский пессимизм, а Рабле Новому времени, его читателю, да и нам с вами — смех. В литературе со времён Античности утерянный.
Дело вкуса. И критерий «нравится — не нравится» приемлем и оправдан. Исходя из этой внелитературной, житейско-читательской точки зрения, мне ближе и дороже В. Марамзин, С. Довлатов, Вал. Попов.
«Пропадать, так с музой», «Я с пощёчиной в руке» — вот она, музыка слова. Или игра с ним. Игра, отнюдь не лишающая слово смысла. Наоборот, обогащающая его. Последнее само начинает играть и музицировать.
«…как если бы божественная природа забавлялась невинной и дружелюбной игрой детей, которые прячутся, чтобы находить друг друга, и, в своей снисходительности и доброте к людям, избрала себе сотоварищем для этой игры человеческую душу».
Фрэнсис Бэкон в своём «Великом восстановлении наук» говорил не о прозе, не об искусстве повествования, а кажется, что именно об этом.
Две строчки из «Рождественского романса» И. Бродского дают и объясняют мне больше, чем значительная, достойная пьеса Ф. Горенштейна «Бердичев»:
блуждает выговор еврейский
на жёлтой лестнице печальной…
При получении Нобелевской премии И. Бродский сообщил, что у него с советской властью разногласия чисто стилистические. У меня с Ф. Горенштейном не более того.
К прозе Фридриха Горенштейна нельзя относиться без уважения. Но радости она не доставляет. Радости чтения. Один критик в начале перестройки, когда пошёл поток до этого непечатной литературы, высказался в том духе, что читать интереснее, чем жить. Но читая Ф. Горенштейна, начинаешь думать, что жить не то что интереснее, но предпочтительнее.
Как известно, не надо страдать по поводу прошлого. Оно прошло. И волноваться по поводу будущего. Его может не быть. Ф. Горенштейн занимался и тем, и другим. Вероятно, он прав. Парадоксы, отполированные до блеска от частого применения, были не для него.
Он всегда говорил лишь о том, что мог мыслить, словно отвергая все прочие возможности узнавания мира или опасаясь, что слова, им высказываемые, потеряют смысл или вообще не обретут его. И любая сама по себе частная идея становилась у него общей, заменяя все прочие идеи того же рода.
«Если целая сложная жизнь многих людей проходит бессознательно, то эта жизнь как бы не была» — записал Лев Толстой в своём дневнике. Вот уж чего не скажешь о Ф. Горенштейне. Он и жил, и писал сознательно.
В одном из писем Флобер написал, что единственный способ не быть несчастным — это целиком замкнуться в искусстве и ни с чем другим не считаться. Мол, гордость заменяет собой всё, если у неё есть достаточно прочное основание.
Не зная, что это Флобер, подумаешь, что сказано не то о Ф. Горенштейне, не то Ф. Горенштейном о самом себе.
Во всяком случае достаточно прочное основание для подобного высказывания у Ф. Горенштейна было.
Тот же Флобер как-то заметил, что высшее достижение в искусстве не в том, чтобы вызвать смех или слёзы, похоть или ярость, а в том, чтобы вызвать мечты. Поэтому лучшие произведения так безмятежны.
Не знаю, могут ли произведения Ф. Горенштейна вызвать похоть или ярость, но мечты уж точно нет. И безмятежными их при всём желании не назовёшь.
Впечатление от прочитанного не критический разбор. Возможность высказаться, обнаружить себя. И чем лучше автор, тем легче читателю найти себя. Качество прочтённого зависит от полноты самораскрытия через авторский текст. Не узнать лучше себя, не познакомиться ближе с собой, а открыть в себе нечто доселе неизвестное.
Ф. Горенштейн — тот автор, который иногда предоставляет такую возможность. Правда, возможность неизменно отрицательную.
«Тогда пришёл на землю Дан из колена Данова Антихрист. Было это в 1933 году, осенью, неподалёку от города Димитрова Харьковской области. Там было начало первой притчи. Ибо когда приходят казни Господни, обычные людские судьбы слагаются в пророческие притчи».
Грамотно, аккуратно, возвышенно. И невыносимо.
Прав был Журден, вопрошая: «…это проза?»
Да, увы, это — проза.
Дело не в темах и сюжетах. В самом письме, которое заскучает и самую высокую, и самую трагическую тему. Высокий библейский ряд не может вытянуть эту прозу.
Он поглощается ею. И свет во тьме уже не светит. Истина о том, что тьма не объяла его, здесь хромает и спотыкается.
Не столько искусство, сколько учительство. Роль наставника прекрасна, высока, значительна. Убийственна она лишь для искусства прозы.
Один идеалист и мечтатель, герой Шервуда Андерсона, пытался засунуть куриное яйцо, не разбив его, в пивную бутылку. Другой — решать проблемы отнюдь не художественные, сочиняя романы, рассказы и повести.
Да, «Зима 53-го», «Зима тревоги нашей», «По поводу мокрого снега». Или вторая часть «Записок из подполья».
По идее последние должны были бы быть любимой книгой автора. Великое произведение. Лев Шестов считал «Записки» главным сочинением Ф. М. Достоевского. А всё остальное не более чем развитием темы, комментарием к теме.
В «Ночных бдениях» Бонавентуры приводится письмо Офелии к Гамлету.
«Любовь и ненависть предписаны мне ролью, как и безумие в конце, но скажи мне, что всё это такое само по себе и что мне дано выбрать. Имеется ли что-нибудь само по себе..
Ты мне только помоги перечитать мою роль в обратном порядке и дочитаться до меня самой».
Персонажи Ф. Горенштейна не выбирают. Им не дано. И подобных вопросов не задают. Они вообще никаких вопросов не задают. Они дочитались до себя, не начав чтения. Без остатка. Нет вопроса, где кончается роль и начинаются они, подлинные. Они знают. Или автор знает. Знает всё. Что естественно. Кому, как не ему. Правда, знание спущено сверху. Как циркуляр.
Ф. Горенштейн — автор авторитарный. А всякий автор с таким темпераментом воспринимает своё творчество, точнее, сотворённое, как «законный конец и предел бесконечного блуждания».
Ф. Горенштейн — не исключение.
Увы, это не более чем приятное и вдохновляющее заблуждение. Яйцо в пивную бутылку не засунешь.
Д. Беркли опасался, что может быть понят неправильно. Опасения оправдались. Я понял его неправильно. И думаю, что когда мы покидаем сад, деревья исчезают.