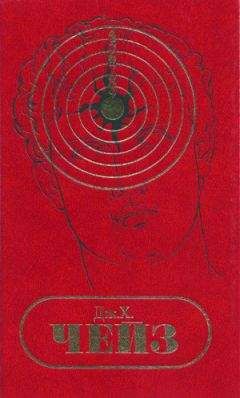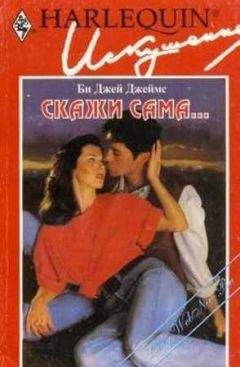Джеймс Мик - Декрет о народной любви
— Больше не делай так, — предостерег Муц.
— Да я, братец, только попугать хотел, — оправдывался Нековарж. — По правде сказать, я и играть-то толком не умею. Вот футбол — это да, люблю, ты и сам знаешь. Доводилось видеть, как панство и начальники друг с другом играют, когда смотрителем работал во Всебогемском обществе любителей лаун-тенниса. Там обычно именно так по мячику били, но случалось, хороший игрок со всей силы попадал сверху. Точнее выходило. Вот таким манером… — Нековарж остановился, неуклюже ерзая, высвободился из-под веревки, достал новую гранату, вынул чеку, подбросил, отвел корпус назад и что есть силы ударил книзу. Снаряд приземлился, едва не долетев до ольхи, и взорвался, осыпав снег желтыми листьями, травой, а заодно обратив пушкарей в бегство.
— Чуть было не вышло пятнадцать-ноль, — произнес Нековарж. Усмехнулся, оступился, слетел по скату вниз, упал на землю.
Упавшего обнаружили еле дышащим, истекающим кровью из длинной раны на темени. Перебежками Нековаржа под обстрелом перенесли в жилище Анны, на другой стороне улицы. Вместе с Девельченом женщина перенесла сына вниз, на канапе в гостиной, а раненого положили на кухонный стол.
Муцу стоило немалых трудов уговорить Броучека вернуться на крышу. Русской и тунгусу поручили приглядывать за чехом. Помочь раненому они были не в силах. Анна стояла, глядя на Нековаржа и гадая, откуда начать перевязку головы, но тут боец открыл глаза. Взгляд оказался на удивление чистым. Некоторое время сержант неотрывно рассматривал женщину. Судя по всему, зрелище доставляло ему удовольствие. Заговорил тихо, но четко.
— Пани, — обратился к ней чех, — скажите мне, сестрица, прошу… Теперь уж нечего скрывать. Раскройте тайну… В чем секрет, как возбудить даму?..
— Хм, — проговорила Анна, — ну, разве что вы пообещаете никому не выдавать…
— Обещаю, — откликнулся Нековарж.
Нагнувшись, женщина тихо прошептала умирающему на ухо:
— Внутри женского лона есть крошечная, малюсенькая косточка, с четверть вершка, с левой стороны. Найти ее совсем не просто, но если отыскать и нежно надавить, поглаживая мочку правого уха, точно ушко мышонка, то женщина при этом включится и станет любить вас вечно. Так уж мы устроены.
— Ага! — обрадовался Нековарж. — Так и знал, что Броучек от меня тайну скрывал! Спасибо… — Вздохнул, блаженно улыбнулся и закрыл глаза.
День был в разгаре. Позднее осеннее солнце, пусть и стоявшее в самом зените, сохранило толику тепла. На талой воде отблескивали лучи. Муц с Броучеком чувствовали солнечных зайчиков спинами.
Теперь загорелись новые избы. Пахло гарью. Пальба стала вялой, однако не стихла. О смерти Нековаржа не знали. Видели, как бывшие товарищи по оружию вновь выкатывают пушку. Впереди, на мосту, что-то прокричал Дезорт. Тряс головой и показывал опущенные книзу большие пальцы.
— Неужели поют? — спросил Броучек.
— Не слышу, — ответил Муц. — Пожалуй, мне следует сдаться капитану.
— А я тебе не дам, братец. Да и что толку?
— Если прорваться к лесу…
— А по-моему, все-таки поют.
Теперь пение услышал и Муц. Хор неумелых, но крепких голосов, распевающих по-русски на мелодию, обыкновенно исполняемую британскими или американскими проповедниками.
Броучек указал на показавшееся шествие. Люди направлялись от площади к мосту. Во главе шествовал Балашов, в одной руке нес белую тряпицу на палке, другой вел под уздцы черного коня. Следом шествовали десятки горожан в черном поверх белого, светло-серого и молочного нижнего белья. Все пели, и по мере продвижения к процессии присоединялись всё новые участники — в основном мужчины, но к ним вышло и несколько женщин. Перейдя мост, повернули за угол к дороге, что вела на полустанок, прошли мимо особняка Анны, под крышей дома, где устроились Муц и Броучек.
— И что мне делать? — недоумевал чех.
— Не знаю, — ответил еврей, — пока Балашов будет виден, прикрывай его.
Теперь в шествии принимало участие около восьмидесяти душ, и пение заглушало доносившийся с северо-запада звук: там постреливали. Громче всех пел Глеб:
Ой Ты, Свят Отец, да Заступник наш!
То не в зеленом саду соловей поет,
То исток всего, истый Дух Святой,
В колокольцы небесные позванивает.
Белых агнцев пред Собой зовет.
Ой вы, агнцы мои, агнцы белые,
Вы возрадуйтесь, заступив в Эдем,
Возликуйте во чистых во сердцах своих.
Как в раю вы стыда не познаете.
Как в саду Моем всяк станет птицею.
Птицей вольною, драгоценною.
Огражу Я вас от злосчастия,
Напитаю сердца благодатию,
Если кто благодати возжаждает —
Пусть претерпит во имя Господа,
На деяние Божье отважится.
Воспримите златое сечение,
От ответа за грех очиститесь,
Чистоты вечной в сердце исполнитесь.
Ой Ты, Свят Отец, Искупитель наш!
На скрижалях златых то завещано:
Лишь бесстрашным узреть Его дадено,
Лишь прилежным да смелым дозволено.
Только ими Сион обретается.
Только им подведут коня белого.
Ну а коль подведут коня белого —
То в седло тотчас воссесть надобно.
А воссядешь — в сердце возрадуйся,
Злат-узду ухвати крепко-накрепко,
Отправляйся в странствия дальние,
Обскачи один все угодия,
Истреби змея лютого, страшного.
Как истребим лютого ворога —
Возрастим сады всюду райские.
В сотне саженей от перекрестка, близ моста, из-за дома появился чешский часовой и велел прекратить шествие. Староста ответил, что привел капитану Матуле доброго коня.
— А это кто с тобой? — спросил солдат.
— Друзья мои.
— Пусть перестанут петь.
Обернувшись, Балашов кивнул, и пение прекратилось. Из укрытия в сопровождении Ганака вышел капитан, предупрежденный новым ординарцем о снайпере.
— Только не при столпотворении народа, — пробормотал Матула, не отводя от лошади взгляда. Выражение глаз его было по-прежнему безжизненным, однако же при мысли о скакуне уголки глаз затрепетали.
— Сколько хочешь за коня? — спросил чех.
— Это подарок вам, капитан, — пояснил скопец.
— Я древних читал! Наверное, десятка два коммунистов и жидовских солдат в брюхе припрятал, а?! — Матула погладил морду жеребца. Животное переступило с ноги на ногу. Скакуна уже взнуздали. — Вы тут про белого коня распевали…
— У нас есть разномастные лошади.
— Что-то не припомню, чтобы кто-нибудь из твоих единоверцев скакал верхом, тем более на эдаком жеребчике… Где украл?! И чего взамен хочешь?
— Уповаем на то, что вы от города погибель отведете, — сказал Глеб. — Не изволите ли верхом прокатиться?
Матула оглядел дорогу из конца в конец.
— А почему бы тебе, лавочник, самому не проехаться? — предложил капитан. — Ну-ка, покажи мне, какая у этого дьявола стать! Вот швырнет тебя в грязь, точно куль с мукой с телеги сбросит — тогда буду знать, что конь достоин возить на себе офицера. Ну, живо в седло! Поторапливайся, мужик, нечего с друзьями целоваться-обниматься — чай, не в петлю, а на коня лезешь!
Глеб принялся взбираться в седло, но в стремя поставил правую ногу. Чехи расхохотались. Незадачливый наездник повторил попытку, грузно перевалился через спину, взгромоздясь в седло, и потянул за поводья, понуждая скакуна развернуться. Жеребец не шелохнулся.
— Не тебе на коне, а коню на тебе верхом ездить! — загрохотал Матула, прихлопывая себя по ляжке. Глаза капитана подернулись влажной пленкой, точно камни после дождя.
Неожиданно скопцу удалось развернуть коня, и животное вместе с седоком неспешно направились обратно — в ту самую сторону, откуда прибыли, рассекая собрание молящихся, жавшихся к обеим обочинам. Глядя, как Балашов неспешно удаляется по большаку, Матула старательно прятался от прицела Броучека за горожанами.
— Что ж, в седле он усидел, а стало быть, минус коню, — изрек Матула и пробормотал: — Великолепное животное…
Добравшись до особняка Анны, староста вновь развернул Омара. И поймал на себе взгляд жены.
— Что ты делаешь? — поразилась женщина.
— Ухожу.
— Куда же?
— Куда следует. Иди в дом, снаружи опасно. Что Алеша?
— Всё так же. Глеб, что бы ты ни замыслил — откажись, умоляю!
Жеребец нагнул голову, тряхнул гривой и ударил копытом по едва смерзшейся дороге.
— Видишь ли, — начал Балашов, — тем, кто перестал быть и мужчиной, и ангелом, существование порой может казаться весьма утомительным.
Анна направилась навстречу собеседнику.
— Знаешь, давно уже не говорил ты так по-мужски, — произнесла жена.
— К тому же, хотя ты и приняла меня любезно, но и отцом я давно быть перестал.
— Нет же, повторюсь: ты по-прежнему отец! — заверяла женщина. — Я все твои дагеротипы сожгла… — протянула аппарат для снимков: — Тут еще осталась пара пластинок. Позволишь?