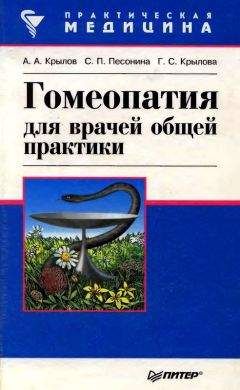Андрей Волос - Предатель
Да-а-а… проблемы, проблемы.
Вздохнув, потыркал окурком в пепельницу, загасил. Набросал на четвертушке листа список из нескольких фамилий. Выискал в толстом блокноте нужную страницу и снова озабоченно придвинул к себе телефон.
Когда после нескольких длинных гудков послышалось бодрое «Алло», Веревкин сказал:
— Добрый день. Семен Семеныч беспокоит…
Дежавю
Угнездился на кушетке, поерзал, приминая спиной плед, и раскрыл том, заложенный листком отрывного календаря.
Подняв уста от мерзостного брашна,
Он вытер свой окровавленный рот
О волосы, в которых грыз так страшно…
Написанное мертвыми буквами на мертвой бумаге казалось живым и пугающим.
Задумался.
Несомненно, «Ад» — гениален. Найти такой способ для рассказа о множестве разнородных, не связанных друг с другом событий и людей!.. «Ад» — гениален.
Еще «Одиссея». Когда-то он пытался изобразить ее композицию графически. Мощное течение потока мешало следить за береговыми ориентирами — опомнишься через двадцать страниц, а тебя уже бог весть куда завели, ловко (закономерно!) перескакивая с предмета на предмет… вернешься, нарисуешь эти переходы, в конце концов замкнешь очередное кольцо. На бумаге структура «Одиссеи» выглядела чем-то вроде куска спирали Бруно — все новые и новые кольца и пересечения…
Даже решить обратную задачу, то есть отобразить ее хитроумное строение, оказалось не так просто: сколько потратил времени и сил, и то еще не был уверен, что учел все в точности… А уж представить себе решение прямой задачи — то есть создание самой «Одиссеи» — да еще устно, без бумаги, без возможности пролистнуть назад и глянуть, что там было в этой громаде прежде, на чем в развитии той или иной линии остановился сюжет! — нет, извините, этого и вообразить нельзя. Якобы Гомер. Якобы вдобавок слепой. И якобы двести лет ходила устно, а только на третьем веку жизни записана…
Нет, нет и нет. Невероятно.
Невероятно — но гениально. Неподражаемо. В прямом смысле неподражаемо: нельзя быть эпигоном Гомера. Как нельзя быть эпигоном Данта. Или, скажем, Рабле. Фантастически ловко собранные в целокупное повествование нерасплетаемо переплетающиеся, перетекающие друг в друга рассказы… из каких пространств приходили к ним эти идеи?.. Еще, возможно, «Шах-наме». Но до нее пока руки не дошли.
Потом сказал: «Отчаянных невзгод
Ты в скорбном сердце обновляешь бремя;
Не только речь, и мысль о них гнетет…»
Почувствовав стеснение собственного сердца, отложил книгу и сел. Секунду прислушивался. Неслышно закрыл дверь на крючок, полез под кушетку. Нечеловечески вывернув руку и кряхтя, нашарил, достал из временного тайника стопку машинописных листов, тут же сунул в тумбочку.
Постоянно так делал: приносил из дома в сумке, совал под кушетку. Когда пробегал по затылку мурашек, подсказывавший, что настало время поработать, доставал из-под кушетки, клал в тумбочку; теперь, по крайней мере, можно было в случае чего глянуть в рукопись: он не Гомер, ему время от времени требовалось пролистнуть, вспомнить, как оно там было…
Собственно говоря, задача стояла простая: описать ход восстания. И последующий конец.
Простая, как же!
К сожалению, Игорь Иванович в этом плохой помощник… То есть что значит: к сожалению? Благодаря болезни он остался жив. А если бы двинулся с Рекуниным, как поначалу собирался, не избежал бы гибели.
Шегаев говорит, что погибли все. Ходило много слухов… очевидцы оставались… просы́пались, должно быть, какие-нибудь крохи и из уст энкавэдэшников.
Так или иначе, Шегаев знает об этом понаслышке.
Однажды бросил странное: дескать, по прошествии времени не мог отделаться от ощущения, будто все то, что происходило с войском Рекунина, привиделось ему, когда он валялся в тифу.
Но привиделось явственно, подробно, в деталях, в многодневном раскладе жизни, со множеством споров, важных решений, мелких событий; привиделось так, будто он не только был участником всего, но вдобавок впитал некое знание, которым не мог обладать, даже будучи участником: скажем, обоз несколько раз разделялся, а потом сходился снова, и Шегаеву известно, что происходило и в одной его части, и в другой…
Если бы была такая возможность, он смог бы сам записать по свежим следам, припомнив как самые малозначительные мелочи, так и важные, ключевые решения Рекунина и его товарищей. Но записать не удалось по ряду причин, а впечатление, так ярко лежащее в памяти, стало мало-помалу выцветать и забываться — точь-в-точь как выцветают и забываются сны: проснувшись, еще отчетливо помнишь все с начала до конца, но первая же волна жизни смывает краски, и от яркой живой картины со многими персонажами, событиями, сюжетными поворотами и неожиданностями остаются только блеклые лоскуты какой-то невнятицы, да и они стремительно тают в потоке реальности…
Конечно, многое он узнал позже. Из-под следствия его освободили — тиф спас. В марте прибыла откомандированная Копылова, они наконец-то встретились. Потом он добился ее расконвоирования; именно там, в Усть-Усе, прошли первые месяцы их счастья, первые месяцы жизни, полной нежности, взаимопонимания и общих надежд.
Как сказать об этом?.. Эх, ведь было уже что-то похожее: он писал, как Ольга полюбила в немецком лагере военнопленного Марата Хачканяна… но ту рукопись украли, и теперь уж не прочитать. Те слова потерялись.
Это непросто — пережить чужое чувство. Думать, думать… напрягать ленивое, косное воображение… разогревать, как застывший асфальт… раздувать искру… Точно: так раздувают костер — до головокружения, до стеклистого предобморока, когда вдруг разъезжается перспектива и мир предстает в очертаниях неслыханной прежде геометрии… Но от костра поднялся на ноги, в испуге потряс головой — и отогнал морок. А здесь, наоборот, еще круче раскачивать лодчонку, кренить с борта на борт… и вдруг захолынет: уже плывешь в сиреневой мгле иной реальности, иных существований!.. Не хватает дыхания, рвет грудь, красно в глазах — и вот выныриваешь с колотящимся сердцем, с пересохшими губами, с душой, сведенной судорогой чужого волнения, отчаяния, надежды…
Как живет человек в неволе? Томит его беспрестанная тупая боль: и не день, не два, а из месяца в месяц, из года в год. Болит у него, болит! и думает он только о своем несчастье, а ничего другого ни почувствовать, ни увидеть не может: вокруг бесцветный туман, непроглядная пелена безнадежности.
Но и у невольника перед глазами может появиться волшебное стекло: тот, кто попал в его фокус, преображается, будто выхваченный из мрака ярким лучом.
Увлечение — это и есть увеличение. Вчера смотрел невооруженным глазом, и тот, на кого смотрел, был мелкий, как все — не углядишь толком, не рассмотришь; ничем из других не выделялся. Но возникла чудная линза, и вот, оказывается, каждая его улыбка — особенная, каждый жест — необычен, каждый взгляд — удивителен: в его существе присутствует нечто такое, без чего трудно жить!.. Не нужна ни помощь его, ни услуга, ни деньги: он нужен сам — весь, целиком!.. И когда он есть — все хорошо, а когда нет — все плохо…
Как вообразить их жизнь, как рассказать о ней?..
Что касается последствий восстания, то, конечно, Шегаев осторожно расспрашивал, тайком интересовался. Узнавал кое-что — по крупицам, от разных людей: одни из них питались, как и он сам, слухами, другие — из самых отдаленных — до поры до времени являлись непосредственными участниками мятежа, а откололись и дезертировали под самый конец, незадолго до гибели отряда.
Да, именно так; но откуда тогда эта ломкость звуков, света, линий? Откуда странное перемещение плоскостей и цвета, какое бывает только в бреду? Откуда эта лиса на снегу, тоскливо глядящая вслед обозу?
Вообще, откуда это знание — пусть смутное, разымчивое, будто марево над раскаленным асфальтом, в котором обочина течет и струится, и каждый камень, каждый стебель дрожит и плавится, — но все же именно знание, а не догадка! — знание, которым Игорь Иванович, несомненно, обладал?
И как об этом писать?..
Более или менее понятна лишь самая грубая канва событий.
* * *Пилы были — самый цимес: ленинградские. Новье, со склада сельпо в Усть-Лыже.
Эту он сразу взял себе и, как время нашлось, развел — будто чувствовал, что пригодится.
Полотно позванивало, с каждым проходом все глубже вгрызаясь в мертвеющий ствол. Опилки быстро желтили снег.
— Хорош, — кивнул Захар напарнику, когда пропил сантиметра на три ушел за середину.
Высвободили полотно, и он взял топор.
Мерзлое дерево звенело, крякало, стреляло пахучей щепой. Мороз давно отступил, было жарко, но руки просили работы еще и еще — и в какую-то секунду ему представилось, что он строит дом: большой новый дом, в котором жить да жить!..