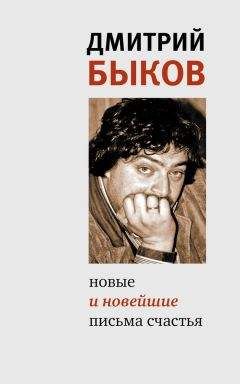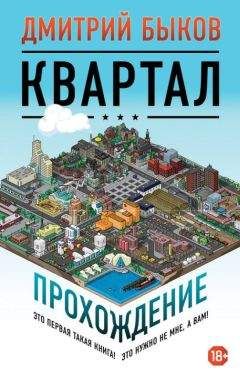Дмитрий Быков - Списанные
Свиридов припомнил манеры Гусева и согласился: сыграть такое невозможно. Человек, который так себя ведет, попросту обязан чувствовать за собой глубоко эшелонированную поддержку и административный ресурс. Это не воспитывается и не покупается, а дается принадлежностью к системе. Другого объяснения гусевского пребывания в списке не было. И насчет главной ошибки — вечной попытки увидеть сложность там, где ее нет, — Макеев был, пожалуй, прав. Обида была в том, что говорит это Макеев, с которым всегда так отвратительно было соглашаться, — но ничего не поделаешь, иногда гнусные замыслы понятней гнусным типам, почему в разведку и контрразведку всегда и отбирали противных.
— Может быть, вы и правы, — признал Свиридов.
— «Может быть!» — передразнил Макеев. — Не может не быть!
Разумеется, с ним надо было соглашаться только безоговорочно.
— Но мне кажется, — говорил Шаповалов, взявшийся неизвестно откуда, а может, это и с самого начала был Шаповалов, тяжеловесный, сырой, одинокий программист, — что принцип строго статистический. Срез общества, ничего больше.
— Нерепрезентативно, — с трудом выговаривал Свиридов. — А-атсутствует пролетариат.
— Но он и в жизни отсутствует. Это же общество, а не население. В населении его, может, две трети, но в обществе… Много вы знаете пролетариев?
— Ну давайте считать, — начинал Свиридов. — Есть врачи?
— Есть, двое.
— Учителя? Военные? Ассенизаторы?
— Нет, я не в смысле только профессий, — исправлялся Шаповалов. — А в смысле доходов…
— Олигархи? Рублевка?
— Нет, но в пределах… высоко вы берете, вот что. В пределах как бы среднего…
— Но тогда какой смысл? Какие процессы происходят в этом среднем, чтобы их стоило моделировать?
— У меня в последнее время желудок плохо работает, — признавался Шаповалов. — Нервное.
Откуда-то брался Клементьев, или он уже был? Кажется, это он говорил о списке как зародыше гражданского общества. Вот тебе и зародыш, желудок уже не работает, а вы говорите.
— Чего бы я не дал, чтобы выйти отсюда, — жаловался Свиридов Клементьеву. — Из этого круга, из этого воздуха. Не примите на свой счет, я очень рад, что с вами познакомился. Но в целом…
— Знаете, Сережа, — говорил Клементьев. — Я бы на вашем месте не торопился с выводами… и выходами… В первое время невыносимо, это знают все, но потом люди привыкают. Адаптируются. Наступает особая солидарность, вырабатывается снизу. Все историки Блокады, скажем, об этом пишут. Я довольно много читал по истории. — Солидные, тихие люди вроде Клементьева редко читали художественное, а зря. Художественное бывает точнее истории. — В первое время — как вообще на войне — доносили все друг на друга, сильны были предвоенные рефлексы, много еще всякой гадости… Но потом обвыклись, научились переносить, заново наросло человеческое — штука в том, чтобы перетерпеть. На какой-нибудь пятый месяц наступает почти комфорт. Трудно поверить, но в окопах бывало комфортно. Или вот говорят — застой. При застое, я-то помню, у людей были механизмы. Были трудности, да, — но были и механизмы преодоления. И это было не так страшно, смею вас уверить…
— Это при условии, — вступил вдруг Трубников, — что мучения не нарастают.
— Ну, ничто слишком ужасное не может длиться слишком долго, — улыбнулся Клементьев. — Из какого-то фильма, не помню.
— Это неправда, — серьезно сказал Трубников, — и вы знаете, что неправда. Есть люди, которым доставляет наслаждение мучить других, а наслаждение требует новизны. Человек не может уморить себя сам, можно искусственно поддерживать в нем жизнь и мучить его, и он ничего не сможет сделать. Ресурс организма велик, практически бесконечен.
Заиграла громкая, яростная музыка, из-за бархатной занавеси выбежала толстая танцовщица и принялась вращать глазами и бедрами. В «Самарканде» почти не было народу, и она сосредоточила усилия на их троице. Если присмотреться, ей было за сорок. Трубников молчал, не желая перекрикивать музыку. Подкатился кругленький татарин, везя тележку. На подносе шипело и брызгалось мясо. Татарин стремительно разложил его по тарелкам и увез поднос.
— Видите, — невозмутимо продолжал Трубников, когда музыка смолкла и танцовщица, в последний раз дернув задом, убежала за бархат. — Вас можно поджаривать на медленном огне, и кажется, что ничего ужаснее этого быть не может. А можно вдруг при этом включить громкую веселую музыку, такую, чтобы била в уши, и это будет дополнительное страдание, которого вы не предполагали. Можно вас поливать в это время кислотой. А можно сделать так, что перед вами в это время будет танцевать ваша мать, или ваша дочь. Еще можно сделать так, чтобы ее на ваших глазах терзали крючьями, не переставая вас поджаривать. Такое было, вы же читали исторические сочинения. А можно у одного столба жечь вас, а у другого жену, тоже было. В России особенно. Видите, диапазон большой, возможностей — космос.
У Свиридова пропал всякий аппетит. Клементьев смотрел в скатерть.
— С интересными мыслями вы живете, — сказал он наконец.
— Все с ними живут, только не все признаются. Кто об этом не думает — просто не информирован. Бывает полный паралич, с сохранением всей ясности сознания, и годами, десятилетиями. А меня часто мучают клаустрофобные сны — особенно когда простужен и задыхаюсь. Впрочем, иногда и безо всякой простуды. Снится, что положили в какую-то колоду и сжали ее обручами на железных винтах, открыть нельзя, но и умереть сразу нельзя — я буду там лежать, пока не задохнусь, а задыхаться буду долго. Регулярно такое снится.
— Это сердечное, — сказал Клементьев.
— Если бы сердечное, то хорошо. Это значило бы, что скоро. Но я еще в себе чувствую жизни лет на тридцать. Только во сне бывает такое отчаяние, наяву его как-то глушишь, — но, вероятно, оно и есть то настоящее, что рано или поздно настигнет. Рассудок-то почти всегда отказывает, вообще структура хрупкая. И когда с людьми сижу — я тоже почти всегда представляю: что с ними будет, если их пытать? С собой-то я это все время представляю, но бывает и с другими. Поэтому я точно знаю, что все эти прекрасные вещи, о которых вы говорите, — они ненадолго. Солидарность там, механизмы… Это значит, что просто прижали не до конца, человек и притерпелся. Он быстро притерпевается, человек — зверюшка адаптивная. А если наращивать, то никакой солидарности. В конце все с ума сойдут, а перед этим еще друг друга искусают. Причем они будут делать хитро — одних пытать больше, других меньше, чтобы и не возникло никакой солидарности. Вот в Ленинграде, вы говорите: в Ленинграде голод и холод действовали одинаково почти на всех. А они нам устроят такой Ленинград, что у одних голод, у других холод, у третьих отняли крышу над головой… Все будет разнообразно, не сомневайтесь. Двести человек — на них нетрудно придумать разное мучительство. У нас это любят. И никакой солидарности.