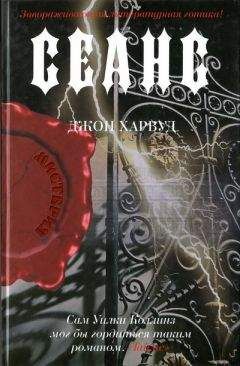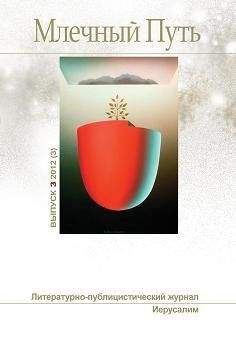Вержилио Феррейра - Явление. И вот уже тень…
— Но не торчать же нам вечность у двери.
Совершенно пустая квартира с голыми стенами. Холодная. Ни одной картины, несколько книг на полу, мои книги с неразрезанными страницами. Милинья вычитала, не знаю где, что зеркала — это средство, с помощью которого мы открываем самих себя, сосредотачиваемся на себе, творим своих двойников. Творим себе «душу». Творим время, понятия «до» и «после» и «после», наступающее после всех «после». И «почему». Простое зеркало. Бедняга Педриньо. Пустая, стерильная, дезинфицированная квартира, вхожу, как в склеп. Тюрьма. Дезинфицированная, голая, как больница. И тут Милинье пришла в голову чудовищная мысль упразднить все зеркала. Зеркало в платяном шкафу, туалетное зеркало, зеркало в передней, в которое заглядываешь на бегу, выходя из дому или приходя домой, чтобы убедиться, что все в порядке. Зеркало в ванной — нет, этого не упразднили. Потому что в конце концов по утрам мы должны выполнять свой долг перед обществом. Хотя мой зять сейчас носит длинные волосы. Но пусть для того, чтобы видеть, достаточно ли они длинны. И в связи со всем вышеизложенным, они спрятали зеркало, придумали механическое устройство для открывания и закрывания. Нужно было нажать на кнопку, скрытую в лепной рамке; у Педриньо не было образа. Он был чист, между ним и окружающим миром все было просто — как у животного. Его руки трогали предметы, глаза видели, но он не знал, что они видят и трогают. Когда-нибудь он достигнет совершенства, будет жить в мире, не зная, что есть мир и что он живет. Когда-нибудь он научится жить только в тот момент своего бытия, в который он живет, быть верным мгновению, не спрашивая «где»; или «куда», или «когда». Когда-нибудь он станет бессмертным: смерть не будет для него существовать, потому что смерть существует только тогда, когда еще не существует, а для него не будет существовать ничто из того, что еще не существует. Его не затронут ни течение времени, ни недуги памяти, ни мертвецы — мертвые образы нас самих, с которыми мы никогда не расстаемся и которые разлагаются внутри нас — они встают передо мною в звуках музыки, которая снова доносится с проигрывателя, я ее уже почти не слышал, голос моей горечи, и я был так одинок. Когда-нибудь Педриньо станет божеством, а мы пребудем людьми. Ведь остается только навоз, пыль, оседающая на моих книгах, солнечный лучик — его стрелка дрожит, подбирается к разделу религии, он трепещущий, живой; роятся мельчайшие пылинки — частицы меня самого. Воссоздать утраченную вечность, выправив ее по мерке человека — бедняга Педриньо. Но наступил день, когда он стал спрашивать — почему? Было столько тайн — почему то, почему это? Милинья обрывала его резко, она знала, что боги не задают вопросов, все убожество человека начинается с «почему». Она знала: стоит дать волю вопросам — им конца не будет, пока однажды не придет вопрос, на который нет ответа. Никаких «почему» нет.
— Нет никаких «почему», «почему», «почему». Вещи таковы, каковы они есть.
— Почему?
И он начинал задавать вопросы сам себе. Сидя на полу, в жажде познания добирался до механических потрохов своих игрушек. Или потрошил игрушки взрослых, сломал одни часы, другие. Или изучал разные части своего тела, такого таинственного. Или, сидя у окна, изучал смуту внешнего мира. То был пустой, голый, стерильный дом. Дом моей дочери. И вот в один прекрасный день Педриньо дотянулся до верхней части стенки в ванной — меня дрожь пробирает. И там, посредине — первый признак великого открытия, крохотная искорка, из которой возгорелся великий пожар. Как рассказать об этом? Как объяснить, если все так чрезмерно, если вся история человека, такая великая и такая бессмысленная, — там, предрешенная в этом мгновенном открытии, таком пугающем — как рассказать? Педриньо встал на табурет, дотянулся до кнопки в лепной раме. И когда его крохотный пальчик, невинный и беспокойный… Тихий щелчок, словно по божьему веленью. И вдруг он весь, целиком отразился в зеркале. Педриньо остолбенел от ужаса, чуть не задохнулся. Затем не выдержал и закричал — отчаянно, во всю мочь, так что дом задрожал. Сухой треск стекла, зеркало разлетелось на куски, осколки звякнули о мозаичный пол. Педриньо закрыл лицо руками, весь дом ходил ходуном, словно во власти подземного неистовства. Милинья прибежала сама не своя, она никогда не слышала, чтобы ее сын так кричал, слышно было на краю света. Он стоял на табурете, держась за умывальник. И кричал. Милинья взяла его на руки, спрятала его личико у себя на груди, унесла его подальше от пугающего образа. Лицо у нее было разъяренное, и разъяренное оно было тогда, когда она рассказывала эту историю. Моя дочь. Молчание, сжимающееся от гнева. Квартира была голая, стерилизованная, чистая.
— Но если ты пришел с той целью, о которой я подумала, Элии здесь нет.
XXIIЕе здесь нет. Я никогда ничего не нахожу там, где ищу, со мной только моя беда, хоть я и не ищу ее, ибо она всегда следует за мною по пятам. А потому поеду-ка в деревню. Переселюсь туда насовсем — найди себе приют там, где твои истоки, все кончилось. Там у меня есть дом на холме, Элене он был не по вкусу, она из южных краев, оттуда, где радость моря, но я-то — здешний. Здешний, из краев, где звездный простор, угрюмые ветры, дальние смутные страхи. Но Элена бросила меня, стала жить с Максимо Валенте, этим дерьмовым стихоплетом, теперь я одинок. О, господи, из всего, что было моим, ничего при мне не осталось, осталась только моя жалкая участь, здесь я и располагаюсь, да, моя жалкая участь — вот моя нежная товарка, она безмолвно меня поджидала, когда я забыл про нее и прославился, когда любил и был любим (был ли?), здесь я и располагаюсь в ожидании конца. Я приезжаю в сентябре, это пора умиротворения. Во мне было столько жизни, и такой неистовой. Теперь все кончилось, я успокоюсь, буду готовить себя к смерти. Все — иллюзии: и женщина, что была со мной и ела со мной за одним столом, пока мы не стали грызть друг друга, и дочь, что была у меня и была не моя, и искусство, что создано мной и от которого осталась только пыль, покрывающая мои книги.
Приезжаю в деревню, вставляю ключ в дверь, в воздухе еще задержался свет. Мой дом придавлен тишиной, перечеркнут горизонтами, небо над ним словно покачивается. Вставляю ключ, поворачиваю дважды, отодвигаю щеколду. Дверь поскрипывает, я останавливаюсь на пороге. Запах затхлости осел на стенах, знакомые с детства домашние вещи замерли для вечности, как на любительском снимке. Стою в нерешительности, из моего склепа веет холодом. Я здесь. Через открытую дверь вместе со мной проникает в дом пятно света, высвечивает в темноте очертания предметов. У меня такое ощущение, что я лежу, вытянувшись посереди гостиной, вокруг — мертвые вещи, дверь моей усыпальницы открыта. Вхожу не без страха, открываю окна, высунувшись в одно из них, гляжу в бесконечность. Солнце еще блуждает по вершинам холмов, деревня погружается в тень — там, внизу, тишина вливается в покой земли, течет в туманность далей. Закрываю окно, сажусь на диван — стало быть, я действительно приехал сюда умирать. Диван шаткий, одна ножка сломана. Элена подложила под него кирпич — так надежнее. Умирать — так умирать, — но не сейчас, когда еще не погасла память о жизни, о том, что придает ей интенсивность: в смерти есть некое величие, ибо приговор продиктован жизнью. Ведь тогда я умер бы трагической смертью, а такая смерть — велеречивая формула несчастья. Нет, умирать, но — так, как гаснет свет, как потухает трепетный огонек, бегущий вдоль фитиля, как развеивается запах, как остывает зола, когда приходит холод старости; умирать в остатках самого себя, они еще при мне, но убывают со дня на день, а я во власти хилости, дряхлости, старческого слабодушия, и голос сбивается на фальцет, и воспоминания истерлись до того, что я впадаю в детство — о, господи. Закуриваю сигарету — пью виски — что мне делать? Вечер еще знойный, глухой шум города ширится в просторе неба. Сажусь на диван, и страх леденит меня до мозга костей, комок жизненной силы растекся жижей, рухнули все державшие меня подпорки. Стало быть, больше ждать от жизни нечего. Я уже на краю своего бытия: уходит все, что волновало меня своей жизненной реальностью в ту пору, когда я повелевал временем и уверенно смотрел в будущее, отрицая смерть. Уходит недоумение, непонимание, безмолвные вопросы к самому себе. А я остаюсь. И голоса один за другим затухают во мне — так сохнут цветы на могиле, пока не превращаются в увядший, жалкий до смешного ворох. Теперь я знаю, что жизнь — но откуда я знаю это теперь? — всего лишь то, что не свершилось, но властно отдаляет то, что было, от того, что должно быть. Сажусь на диван, он чуточку шаткий, смотрю прямо перед собою в открытое окно, на пустоту моего горизонта, оглядываюсь вокруг, высматривая знаки, которые я сам для себя создал. Над очагом рисунок Милиньи. Еще из того времени, когда она любила меня, — сколько лет назад? — когда она росла во мне, и ей была приютом самая духовная часть моего «я» и гордость, ничего общего не имевшая с гордостью чисто физической. Теперь она ушла, все это — пустая кожура, никудышная оболочка того, что пошло в дело, я остался наедине с собственной никудышностью. Бледный луч солнца проник через окно, высветил рисунок Милиньи, подбирается теперь к разделу метафизиков. Рисунок цветными карандашами: линия горизонта, мельница, сверху просторное небо. Я смотрю на рисунок, преображенный светом, он трогает меня своей ослепительной красотой, никогда не существовавшей и оттого еще более трогательной. Вдали звонит колокол, его отзвуки ткут в пространстве весть о моей смерти. Я умер, точно знаю. Лежу в гостиной, вытянувшись во всю длину, один-одинешенек, сижу у собственного изголовья, отвернув лицо, не хочу на себя смотреть. Затем я и приехал сюда — чтобы побыть возле своего трупа, отдать ему долг последнего бденья, — может, сумею выполнить пристойно этот долг. Во мне еще много чего шевелится, живет — отзвуки моей былой активности в ту пору, когда я околачивался в мире. Мало-помалу все то, что во мне способно двигаться, забудется, замрет, онемеет — внезапно поворачиваю голову. Я здесь — лежу, вытянувшись во всю длину. Вполне мертвый, навсегда успокоившийся — а ты ведь столько шевелился. Теперь спишь. Вид отталкивающий. Блестящая лысина с несколькими отставшими от нее волосками и впалый рот — значит, челюстей не вложили. И глаза впалые, глубокие костяные впадины. Вид отталкивающий. Лоб сплющенный, на черепе выпятились шишки — оттого, что ты много думал. И руки. Сколько сотворили твои пальцы, плели, множили, трудились. По ним еще немного видно, чем ты занимал их. А вот от мыслей, которым жизненная сила придавала такую остроту, ничего уже не осталось. Иссохшие, дряблые, ледяные руки — сажусь у твоего изголовья, готовлюсь к бденью. А цвет кожи. Мерзкий цвет гнили, тошнит от одного вида — кто, кроме меня, мог бы отдать тебе долг последнего бденья? Вот ты лежишь здесь грудой падали. А в тебе было столько жизни, столько жизни.