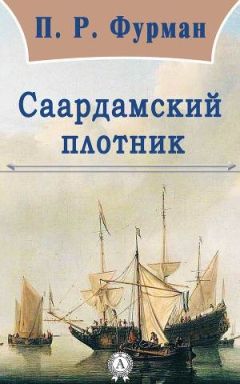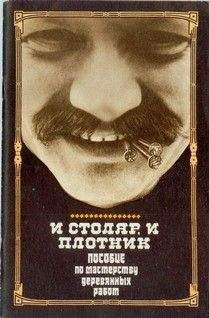Александр Шакилов - Культурный герой
Старлей слушал этот бред и кивал. Да, конечно, да, ого, ну ничего себе, да…
У воинов-монахов яростно бурчали животы. Скорее, скорее сдать еретика братьям и удалиться на трапезу в трактир Хромого Диего. Два квартала вниз по улице — и пряная тушеная телятина дымится на глиняной миске, щербатой и жирной. Ах, жирной?! Хозяин, почему не вымыл?! До панцирного блеска сапоги давно лизал?! А телятина у тебя хороша! Хор-р-роша! Ох, хороша! Умеешь, чертяка, прости, Господи!
Чревоугодие, конечно, грех, никто не спорит, но… Не согрешишь — не покаешься. А не покаешься, так и в рай не попадешь. О! И пальцем в потолок, и назидательно: грешите, братия!
Но в меру.
Роскошь дворца давит сверху, навалилась фундаментом, не продохнуть. Знакомая ситуация, Старлею не привыкать. Позолота подсвечников безразлична к людским страданиям. И танцуют солнечные зайчики, скользя по батальной росписи потолков: поклон пушке на лафете, реверанс полководцу в мундире и в штанах с лампасами, присед санитарке и лучики врозь от взрыва снаряда. Старлею уготован каменный мешок в подземелье, гнилая солома в углу скучает по теплу людского тела.
Спертый воздух, как ночной горшок, переполнен густым, настоявшимся за годы смрадом узников. Протяжный скрип засова: прощай, воля! Дыхание превратилось в тростниковую патоку, липкую, как пионерский клей «Момент»: смотри, не оступись, завязнешь, с головой уйдешь. И тишина. Ни стонов, ни криков. Лишь похабные речи охраны и стук собственного сердца. За открытый без разрешения рот избивают до полусмерти; хочешь жить — молчи. А не хочешь… Самоубийцы тоже старались не привлекать внимания.
Старлею пригрозили пытками и познакомили с палачом, милейшим человеком в кругу семьи и мрачным монстром, кровожадно взирающим на пленника сквозь дыры для глаз. У палача под капюшоном потел лоб, соль затекала под веки, вызывая неприятную резь. А не вытереть, не умыться: служба. Надо соответствовать. Кто ж испугается палача, если тот платочком будет вытирать со лба пот?
— Что ж, раскаяние вам неведомо. Очень жаль. Хотя… Отлично, Боб, пытай его, отработай денежку, что тебе выплачивает муниципалитет.
Старлей сначала не понял, а потом очень удивился: как его, героя войны, посланца Бога! — и пытать?! Дык, прости им, Господи, ибо не ведают что творят!
— Я расскажу вам коротенькую притчу. — Старлей прикусил губу, когда заостренная щепка впилась ему под ноготь. — Однажды добрый самаритянин решил сварить чудодейственную мазь для омоложения лица. Он поставил котел на огонь, налил свиной крови и смешал с гноем паршивой блудницы, подыхающей от сифилиса и лучевой болезни. Самаритянин долго кипятил свою мазь, перемешивал, следил, чтоб все было согласно техпроцессу. Умелец славно потрудился, но в итоге получилась отнюдь не средство для придания луноликости, а всего лишь навоз, подобный испражнениям богомерзких тушканчегов. И неудивительно. Что еще могло получиться из гноя и крови?
Палач и монах переглянулись, кивнули друг другу — и кляп, сверток промасленной ветоши, заткнул Старлею рот. До следующего допроса.
Его хлестали просмоленными веревками и заставляли подписать признание. Для начала в том, что он молдаванский шпион. Или хотя бы японский. Старлей бубнил в ответ: «Вы ничего не понимаете, мне нужно многое вам рассказать! Вы же забыли то, что я вам поведал! А должны были записать. Где пергамент? Где бумага? У меня есть черный маркер, но я не вижу папируса, сортирной бумаги и той нет… Милые люди, поймите! Нельзя так наплевательски относиться к новым главам Святого Писания, нельзя, это кощунство…»
Он терял сознание: танцевал босиком по зеленой траве, бабочки садились на его широкие, мускулистые плечи, потом он шел на работу, на танковый завод, в цех, где полжизни провел отец. Он любил Господа, и Господь любил его. Но вновь и вновь Старлей приходил в себя. Холодная (святая?) вода стекала по щекам, трибунал, кряхтя от усердия, зачинал дознание. Старлею заламывали руки за спину и с помощью блока вздергивали к забрызганному кровью потолку. И это было мучительно больно. И долго. О-о-очень больно и до-олл-го-аа!
Прости им, Господи, ибо не ведают… Что творят, псы позорные?!
Balestilla, mancuerda, potro…
Прости!
Обычный день. Веревка на шее, в руке свеча. Желтая туника до колен, веселый рисуночек: людская фигурка корчится в пламени. На голове дурацкий колпак из картона: кресты, слова молитв и хвостатые дьяволы с турбоускорителями вместо пупков. Во рту у Старлея кляп.
Трубы, литавры и знамя — где-то далеко впереди процессии. Громкая музыка — литавры, трубы и знамя, — чтоб каждый услышал, чтоб ни у кого в Городе не было шанса пропустить зрелище.
Старлей стойко принимает проклятия от стариков и детей, от рожениц и умудренных сединами матрон. Хорошо хоть, не камни, не кубики-рубики, перемотанные отравленной изолентой, не заточенные до бритвенной остроты сюрикены. Хорошо ли? Камни только телу боль причиняют, а злые слова душу ранят — перетирают в хлипкие кусочки, в сукровицу и осколки душевных костей.
Долгая дорога — нет тебе конца и краю. И лица, лица, лица… Морды, перекошенные от ненависти. Засуха, мор скота, люди заживо покрываются струпьями и падают. А вот и виновник всех бед. Еретик! Дезертир! Шпион тушканчегов! На костер его! На костер!! Поджарьте ему пятки! Еретик-гриль, бифштекс из дезертира! На барбекюшницу его!
Пришли.
Седой монах торжественно читает молитву, пару раз сбивается и сипит: солнце немилосердно жарит, глотка пересохла. Далее проповедь и месса. Воскресный день как-никак. В глазах пестрит от праздничных одежд: народ пришел поразвлечься — на людей посмотреть, себя показать.
Высокий эшафот. Очень высокий. Цепляет верхушкой смог, повисший над Городом. Солидно выглядит кресло Великого Инквизитора, которое, согласно поверьям, выше трона Президента и небоскребов. Короче, превыше всего.
Два десятка и один столб стоят, не падают, чтоб всем приговоренным хватило места. Вейте гнезда, господа, не стесняйтесь! Кучи сухого хвороста, огромные кучи. Гори-гори ясно! Чтобы не погасло! Гаденькие смешки, радостные…
Со всех концов растерзанной страны привезли вероотступников и колдунов, иудеев и магометан. Развелось мрази! Каленым железом клеймить! На костер! Поджарьте им пятки! Давно в Городе не было auto da fe, целых три дня, — народ соскучился.
Толкают в спину. Почему они всегда толкают в спину? Надо подняться по лесенке и сесть на доску, палач прикует. У палача такая работа, сдельная оплата — чем больше еретиков, тем жена довольней, детишкам будет что пожрать. И самому на винцо останется. И на рыжих красоток.
Святоши в сутанах удаляются: «Оставляем ваши души Дьяволам, стоящим у вас за спиной…»
Чего они шепчут? Старлей не слышит. Третий день — ни звука. Из ушей опять течет кровь.
«Побрейте этих собак!!» — ревет толпа, в лицо Старлею тычут длинным шестом с пучком горящего хвороста. Вспыхивает щетина.
Толпа довольна, толпа рукоплещет. Гудит одобрительной пчелой, роем одобрительных пчел. Шершней.
Под ногами пылает хворост — гори-гори ясно! — издевается ветер.
Жаркий воздух вокруг Старлея рыдает и стонет. Здравствуйте, соседи! Как здоровье ваше? Не жалуетесь? Руки-ноги в пламя сами протягиваете? Побыстрее чтоб? Господь любит вас, соседи!
Вспыхнул колпак, запылала туника. Смрадный дым спрятал Старлея от толпы.
Жар заставил отступить самых любопытных.
Трещат сучья. Весело. Сссучья.
А потом…
Он висел в центре огненного шара. Девственно голый, руки скованы оранжевой раскаленной цепью — и ни единого ожога, ни единой раны на теле. Balestilla, мancuerda, рotro? Младенец в лоне матери. Искры-уголья? Пуповина и плацента.
Чудо?
«Я же говорил вам», — звучал голос.
ЕГО голос. Добрый.
«Я Старлей, Сын Божий. Господь ниспослал меня искупить грехи ваши. Почему вы не верите мне?!»
Чудо?
Чудо…
«Чудо!!» — шелестело осенними листьями в толпе. Поначалу вполголоса, потом громче, и вот кто-то не выдержал — вопль ударил по ушам: «ЧУДО!!»
И воздух наполнился ароматами роз и жасмина. И сквозь брусчатку проклюнулась зеленая трава, и бабочки садились на плечи ЕМУ.
Схватившись за подлокотники, Великий Инквизитор встал. Его шатало. От страха? Смирения? Любви?
Сын Божий, сын божий, сын… — подламывались колени.
«Я пришел искупить грехи ваши! Дети мои, освободите меня! Верьте мне! Я — Сын Божий!»
И все они, испуганные, но с просветленными лицами, наконец, поверили.
…и Старлей завизжал, и запахло паленым мясом.
НЕМНОГО О МИРАХ, УТРАТИВШИХ СВОЙ ШАНС
человек не прекращается
исчезая без следа
просто в память превращается
и собака с ним всегда
Алексей ЦветковКир ехал на своем восьминогом жеребце по кличке Слейпнир вдоль железнодорожной насыпи. Быстро сгущалась ночь. Вдоль насыпи, в обильных зарослях крапивы и чертополоха влажно поблескивала роса. Жеребец больше не хромал, однако немилосердно косил на правый глаз и постоянно подергивал головой, будто пытался совместить поля зрения. У платформы со многими сходящимися путями тропинка кончилась, и Кир спешился. Он отпустил повод и хлопнул жеребца по крупу, и лошадь послушно потрусила назад, в темноту.