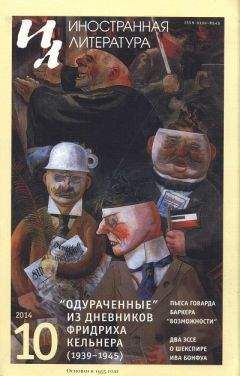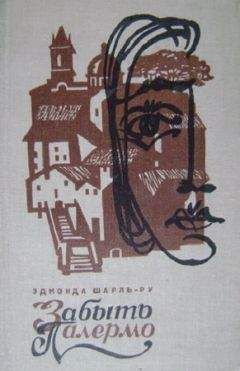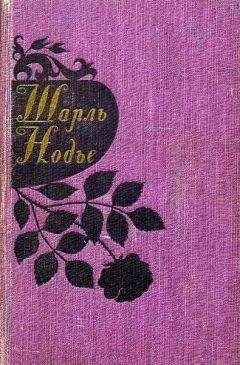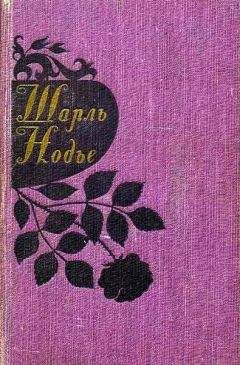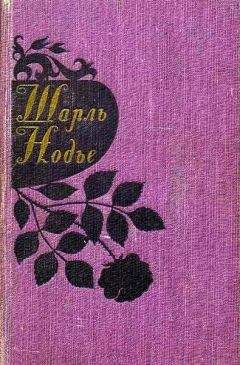Владимир Шаров - Возвращение в Египет
Когда на Балчуге снег падал и падал, нам с Соней казалось, что, как изгнанные из Рая Адам и Ева, мы первые ступаем по земле.
Коля — дяде ПетруК тому времени, как я узнал, что Соня скоро станет женой психиатра по фамилии Вяземский, мы уже давно (с полгода, не меньше) с ней не встречались. Я учился в институте, новые интересы и новые связи сами собой всё, что было раньше, отодвинули на второй план. Надо сказать, что к мысли, что наши долгие прогулки по Балчугу — часть детских отношений и именно таким детским романом то, что связывало меня с Соней, должно остаться, я привык довольно легко. Мне казалось, что всё, включая деревеневшие на морозе ноги, было правильно, и о том, что мы не зашли слишком далеко, я тоже не горевал. И вот примерно за месяц до свадьбы Соня вдруг снова мне позвонила и сказала, что хочет зайти. Дело было вечером, родители ушли в театр, и я коротал время один. Сейчас понимаю, что она хотела подвести итог и проститься, но, может быть, и проверить себя — если ошиблась с Вяземским, раздать карты заново. Разговор был настороженный. Сначала мы сидели в гостиной, потом перешли на кухню. Долго пили чай, снова вернулись в гостиную. Соня колебалась, всё не могла решить — я или Вяземский. Я сидел на диване и видел, что она попала в колею, ходит по кругу. Чтобы помочь, я позвал Соню к себе, но сделал это необязывающе, и она, уже встав, раздумала — согласилась, что роман между нами должен остаться детским.
Коля — дяде АртемиюНаши отношения с Соней остановились на полпути. Но, пока был рядом, я сколько мог поощрял ее детскость, ее взбалмошность, можно сказать, одну ее в ней и любил. Соня росла, смотрясь в меня, как в зеркало. Не филонила, запоминала каждую мелочь, которая манила, влекла к ней. Дальше, убедившись, что это нравится и другим, поняла: меняться резона нет. Так что, если сейчас что-то в Соне меня не устраивает, кроме себя, винить некого.
Коля — дяде ЯнушуСоня много переписывается с когда-то моей, потом своей няней — Татой, женщиной твердой и в убеждениях весьма решительной. В частности, сообщила и что я зову ее в Казахстан, однако она колеблется, боится ехать черт знает куда. Плохо ли, хорошо, но к прежней жизни она притерпелась, и теперь разом поставить на всём крест ей тяжело. В ответ Тата (стиль выраженно ее) пишет: «Человек так устроен, что однажды уходит из дома. Уходит, чтобы сойтись с другим человеком, стать с ним заодно. К сожалению, часто оказывается, что из дома, из которого он ушел, уходить не следовало, в нем, в этом доме, было лучше. Однако вернуться некуда, что было — разорено и разрушено. Когда мы первый раз уходим, в нас огромный запас любви, мы верим, что ее хватит на всех, но еще нет и середины жизни, а всё без толку растрачено, ушло в песок. Сгорело, будто свеча в пустой комнате, ничего не осветив и никого не согрев».
Коля — дяде АртемиюТата, в сарае у которой все время, что я отбывал лагерный срок, пролежал архив, — старая дева. С двадцать третьего года она жила в нашей семье, помогала матери со мной. Потом перешла к маминой двоюродной сестре, тете Веронике, и выхаживала уже Соню. Мне и раньше казалось, что она растила нас как бы друг для друга и, когда не сладилось, сколько ни уговаривали — уехала в Вольск. Кто-то из родных, умирая, оставил ей там дом.
Коля — дяде ПетруЯ понимаю, что ты прав, но пойми и меня. Я помню ту Соню, какой она была; наверное, и сейчас ее люблю. Но с нынешней мне трудно. Когда в Мозжинке на даче бесцветно и глядя в сторону, она рассказывает, кто ей снился сегодня ночью и что проснулась оттого, что между ног сделалось мокро, я, конечно, слушаю, но помочь ей мне нечем.
Коля — дяде АртемиюЭто правда, что когда-то я верил, что Соня выбрала тихое, сытое замужество, как во времена Иосифа Иаков с сыновьями — Египет, и опять дело обернулось рабством. Теперь, объясняю я себе, она освободилась, и мы вместе рука об руку пойдем в Землю Обетованную. Ее роман с туркменом меня не спугнул, я счел его за тельца, отлитого у Синайской горы. Вряд ли всё это разумно. Мы с ней не избранный народ, да и Земли Обетованной окрест тоже не видно.
Коля — дяде ФеренцуСоня просит писать, какой я ее знал и любил. Похоже, для нее это новая Соня, оттого любопытство неутомимо. Я давно пишу больше, чем помню, тягощусь этим.
Коля — дяде ЕвгениюСоня ленива, но бесхитростна. Требует от меня больших, подробных писем, а сама в последнее время отделывается простыми открытками. Пишет, что ничего интересного в ее жизни нет, всё хорошее в прошлом. Может, и без расчета подводит к мысли, что то, какой я ее знал, какой любил, стоит оставить. Прочее — отходы.
Коля — дяде СтепануВ Москве откровенность Сониных признаний, напор, сила самообличения, которая в них есть, буквально сводят меня с ума. В другой раз слушаю ее как священник общую исповедь; спокойно понимаю, что грех вездесущ: так было всегда и всегда будет, пока человек живет на земле. Пожалуй что и радуюсь, потому что, всё это из себя выплеснув, Соня делается умиротворенной, ласковой, словно кризис миновал и она выздоровела.
Коля — дяде АртемиюДедом Сони по матери был известный тебе еще по Сойменке Оскар Станицын. С первых лет как Соня оказалась в Москве, он много ее рисовал. Верткая, беспокойная во всех своих суставах и сочленениях, она была так же подвижна и в настроении: восторги, радость то и дело сменяли горькие, безнадежные слезы, успеть за ней было очень трудно. Единственный способ что-то пусть не остановить, хотя бы замедлить, было рассказывать Соне разные байки, и нынешние, и из прежней жизни.
Коля — дяде ЕвгениюСоню рисовали разные художники. Среди прочих, как я теперь знаю, Серафим Колодезев. Колодезев объяснял Соне, что, коли все люди созданы по образу и подобию Божьему, они, несмотря ни на что, есть иконы и так же, несмотря ни на что, украшают мир, который есть Его Храм. Он был неплохим портретистом. Заказчикам импонировало, что он работает не спеша, вдумчиво, передает особенности твоего лица со вниманием и тактом.
Но не это одно. Начинал Колодезев подмастерьем у какого-то провинциального богомаза, кажется, в Лебедяни. Годы учения так внятно в нем отложились, что под его рукой любое лицо незаметно делалось ликом. А, согласись, всякий день видеть себя подобным угодничкам Божьим каждому утешительно.
Коля — дяде СтепануУ Сони дар затевать разговоры, которые, по меньшей мере, мне неприятны. В третьем письме она допытывается, что я считаю: прав был дед или не прав, когда год за годом рисовал ее обнаженную. Картины проданы, но осталось немалое число эскизов, набросков, и для нее они, будто интимный дневник. Соня говорит, что ей достаточно одного взгляда на лист, чтобы вспомнить не только когда это было, но и что чувствовала — рука, нога, грудь, прочее, когда дед их рисовал. Он как бы проявлял, выводил на свет божий ее суть, то, как она шаг за шагом идет от маленькой девочки (мать звала ее «моя куколка») к девочке уже большой, в которой всё вызрело, всё изготовилось, чтобы сбросить кокон. Несмотря на таблетки, у Сони отличная память, а тут она и вовсе делается фотографической. Я читаю и думаю: разве можно жить, ничего не забывая? Судьба свела нас чересчур близко, а так я бы многое дал, чтобы быть ее наперсником.
Коля — дяде ПетруСоня обсуждает со мной не только правоту деда, но и правоту отца, которому ее позирование решительно не нравилось, но который так и не положил ему конец, попугал, попугал и всё оставил, как есть. Рассказывает про свою мать. На словах она была солидарна с отцом, но тихой сапой споспешествовала деду, почему Соня и продолжала ходить позировать. Соня уверена, что это неразумно ускорило ее созревание, главное же, нарушило его ход. В результате еще совсем девочкой она во весь опор побежала замуж. Ведь они с Вяземским расписались, когда ей не было и семнадцати, пришлось даже делать фальшивую справку, что она беременна, иначе в загсе указали бы на дверь. На ней тогда прямо было написано, как сильно она хочет мужика, конечно, у Вяземского потекли слюнки. Бросил жену с семилетним ребенком и побежал за Соней, будто кобель за течной сукой. А что в итоге? Из-за дедовских изысков всё, что Вяземский смог ей дать, показалось убогим, бездарным; сейчас его уже нет на свете, а ей, в сущности, и вспомнить нечего.
Коля — дяде ПетруСоня пишет, что отцу до крайности не нравилось, что его еще совсем маленькая дочь служит кому-то натурщицей. В свою очередь науськанная им мать ссорилась с дедом, приставала, почему прелестную, изящную девочку рисуют в самом непотребном виде — с половой тряпкой в руках, а то и похуже. По словам Сони, дед, не вдаваясь в подробности, отвечал, что в ее дочери он ищет не просто обнаженную натуру, а такую, в которой напряжены, выдавлены вперед все те мышцы, что необходимы для исконной женской работы. Это цепляет, коллекционеры иначе не покупали бы его картины.