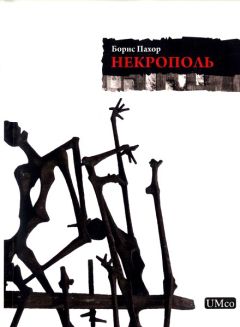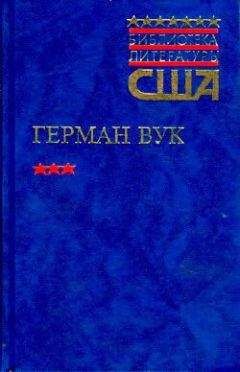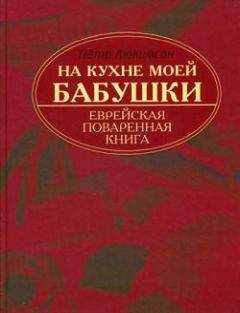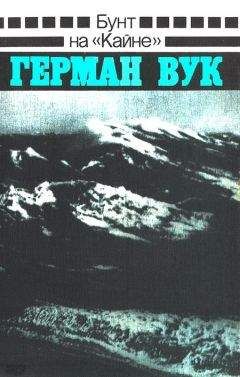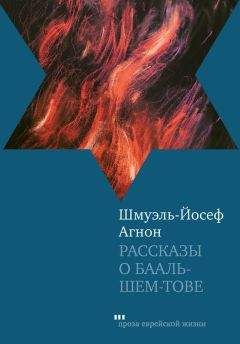Герман Вук - Внутри, вовне
— Привет! Я Виконт де Браж. — Он взглядывает на меня таким же неузнавающим взглядом, как раньше. — Спасибо что взял мои стихи.
— Кстати, «враг» и «страх» не рифмуются, — говорит он. — Разве что в Бронксе.
Уф!
Потом долгие годы я всегда старался произносить «г» особенно звонко; привычка въелась, и это осталось до сих пор. Так что куотовская язвительность сделала свое дело.
* * *
К концу первого курса Виконт де Браж уже то и дело печатается в разделе «В час досуга», а М. Б. напрочь из него исчезает. Однако ни в чем другом мне Монро Биберман так и не удается обскакать. Наоборот, он уже первый кандидат в редколлегию от нашего курса. Ему поручают большие серьезные статьи. Он становится вторым человеком в отделе театральной критики, бесплатно ходит в театры и пишет высокомерные рецензии в манере самого высокомерного нью-йоркского критика Джорджа Джина Нэйтана. Главный редактор «Зрителя» Рэнди Давенпорт, член общества «Тау-Хи», и заместитель редактора — бледный тщедушный еврей из студенческого общества «Бета-Сигма-Ро», который фактически и руководит газетой, — оба они в Монро Бибермане души не чают: они ему улыбаются, превозносят его до небес и неизменно освобождают его от какой бы то ни было черной работы.
Вот вам пример. Однажды в мартовский день, когда на дворе льет как из ведра, а мы с Биберманом — мы одни — сидим в редакционной комнате, из своего кабинета выходит Рэнди Давенпорт.
— Эй! — подзывает он меня. — Вот это нужно передать моей матери. Свези-ка: вот адрес.
Он вручает мне объемистый пакет. Почему мне? Почему не Биберману? Произноси я «г» не так, как в Бронксе, и живи я на Парк-авеню ниже 96-й улицы, я бы поставил Рэнди на место. Ведь это же не газетная работа. Но «Зритель» — это вся моя жизнь в университете, а Рэнди Давенпорт — большая шишка. И пока я натягиваю свой кургузый желтый макинтош, оставшийся от лагерных дней, Давенпорт благодушно хвалит Бибермана за то, как тот разделал под орех последнюю пьесу Юджина О’Нила.
Адрес, куда нужно доставить пакет, — Вест-Энд-авеню, ниже 96-й улицы. Дело происходит сорок лет назад, когда в роскошных квартирах этого района евреи почти не жили. Я еду в центр на трамвае и бреду под дождем к нужному дому. Швейцар в ливрее, стоящий под навесом у подъезда, подозрительно оглядывает мой желтый макинтош, мои мокрые волосы, пухлый пакет у меня под мышкой и, я подозреваю, мои минскер-годоловские черты лица.
— Служебный вход вон там, за углом, — показывает он куда-то вбок.
Я инстинктивно весь ощетиниваюсь:
— Я не посыльный. Я друг Рэнди Давенпорта. Этот пакет — для его матери.
Швейцар открывает дверь. Затем меня точно так же придирчиво осматривает лифтер, прежде чем впускает в свое транспортное средство. Маленькая седовласая дама открывает перед мной щелку двери с табличкой «Давенпорт» и, не произнося ни единого слова, берет пакет. Я успеваю разглядеть за ее спиной кусок огромной квартиры с витражами в прихожей, прежде чем она захлопывает дверь у меня перед носом.
Глава 41
Я расту
Как будто у первокурсника в Колумбийском университете и без того мало забот, так на меня еще наваливаются дополнительные тревоги, связанные с половым созреванием. В начале семестра я — все еще пухлый, круглолицый недавний ученик иешивы. Возвращаясь домой, в Пелэм, ошалевший от Софокла, Мильтона и Джона Дьюи, я, прежде чем снова засесть за занятия, час-другой играю в волейбол с первыми попавшимися уличными мальчишками. Мне и в голову не приходит, что это для меня теперь неподходящая компания, а они об этом и тем более не догадываются, потому что говорю я точно так же, как они, и вполне могу сойти за местного старшекурсника.
Но вот наступает весна, начинают созревать почки — и вместе с ними начинает созревать и наш Исроэлке. В Талмуде говорится, что о процессе взросления свидетельствует появление первых двух волосков на лобке. Я явно перевыполняю норму. У меня начинаются эротические сновидения, сопровождающиеся разными непонятными явлениями. В наши дни все это подробно обсуждается и объясняется в журнальных статьях, но в те годы ничего такого не делалось; даже преподаватели «гигиены» старались касаться этих вопросов как можно реже, оставляя нас в полном неведении. Поэтому я не могу понять, что со мной происходит. Добрый месяц я пребываю в постоянной ипохондрии, одновременно сочиняя юмористические стихи за подписью «Виконт де Браж» и работая в университетской многотиражке, а заодно сдавая экзамены и работая над тематическими сочинениями.
Самое важное событие весеннего семестра — это постановка сочиненного Питером Куотом студенческого капустника под названием «Ехал грека через реку». Действие происходит в древних Афинах после краха тамошней биржи. Сократ продает яблоки; Платон и Аристотель — обанкротившиеся биржевые маклеры; Перикл живет в бочке вместе с Диогеном; хор танцующих гетер изображает очередь за благотворительным супом, и так далее. Зевс — это окарикатуренный Герберт Гувер, а Афина Паллада разговаривает как Мэй Уэст. Ну и все в таком духе. Полным-полно намеков на студенческую жизнь, шуток, касающихся Колумбийского университета, и острот насчет Кризиса.
Мне этот капустник представляется чудом остроумия. Подумать только, что все это сочинил один человек! Сам Питер, в роли лесного бога Пана, разыгрывает довольно скабрезную сцену с Афродитой, склеивает ее и, танцуя, удаляется под бурные аплодисменты. Я вне себя от восхищения Питером Куотом. Футбольные чемпионы, университетские политики, Рэнди Давенпорт — куда им до гения, который на все это способен! В тот вечер, когда я смотрел «Ехал грека через реку», я понимаю, что моя университетская судьба предрешена. Я напишу университетский капустник.
А почему бы и нет? Ведь я уже выделен из толпы плебса. Когда я прохожу мимо студентов, читающих «Зрителя», до меня порой доносится вопрос: «А кто этот Виконт де Браж?». Для меня эти слова звучат как райская музыка. В июньском номере юмористического еженедельника «Шутник» напечатаны аж целых два опуса Виконта де Бража. Я расту, я начал бриться, я попал в ПЕЧАТЬ, и, по крайней мере в моих сновидениях, я уже настоящий мужчина. А наяву я грежу, что я — второй Питер Куот. Что же до Железной Маски, то, хотя он вызывает у меня живейший интерес, вижу я его очень редко. Говорят, он специализируется по физике и перед выпускными экзаменами работает как вол.
* * *
Второй курс я начинаю в приподнятом настроении. Золотая осень будоражит кровь. Наконец-то я ощущаю, что я — плоть от плоти редактор университета. Моя фамилия в качестве младшего редактора украшает шапку и «Зрителя» и «Шутника».
Скандальное происшествие с выборами нового заведующего редакцией «Шутника». На эту традиционно еврейскую должность претендовал Питер Куот, считая, что она — его по праву: зря он, что ли, столько лет давал в журнал чуть ли не половину материалов? Главным редактором Питер стать не может: это место с незапамятных времен занимают только «гаки» — потомки голландских колонистов; так уж повелось. Но нежданно-негаданно заведующим редакцией выбирают другого гака, никому не известного, — неприметного гоя по имени Престон Бертон, и дело швах. Униженный уходящей редколлегией, Питер покидает журнал. Я — слишком мелкая сошка, чтобы быть замешанным в таких интригах, и меня ничуть не удивляет и не возмущает, что еврей не может стать в Колумбийском университете главным редактором. Таков порядок вещей; тоже мне новость!
Начинается прием в студенческое братство. Мне, я знаю, положено вступать в «Бета-Сигма-Ро». Почти все евреи, которые хоть чего-то добились на четвертом этаже корпуса имени Джона Джея, — писатели, капитаны спортивных команд, политики, — состоят в «Бета-Сигма-Ро». На вечеринках в «Бета-Сигме» Монро Биберман уже ведет себя как свой. Он раздает напитки, перешучивается с членами правления общества и остается, когда мы все расходимся. Как-то раз я тоже решаю остаться, дабы дать «Бета-Сигме» возможность почтить знаменитого Виконта де Бража. Когда Биберман видит, что я остался, он уходит. Члены «Бета-Сигмы», убирающие за гостями, со мной вполне учтивы, они предлагают мне еще выпить и закусить, но насчет моего вступления в братство — ни слова. Появляется Марк Герц — в затрапезном виде, без пиджака; во время обрядов посвящения он о себе почти не давал знать.
— Привет, Виконт! — говорит он. — Вот ты где! Пройдем-ка ко мне в комнату.
В жизни бывают моменты, которые потом никогда не забываются. Вы можете не думать о них десятилетиями, но стоит вам о них вспомнить — и они тут как тут, со всеми подробностями. Одним из таких моментов остается для меня тот разговор с Марком Герцем — наш с ним первый серьезный разговор. Я как сейчас вижу эту жалкую мансарду с нишей, в которую втиснуты полки, заваленные книгами по физике и экономике, пропахшую дешевым лосьоном для бритья и табачным дымом. Марк спрашивает о моей семье: где я живу, чем занимается мой отец. Я упоминаю о том, что моя сестра вот-вот должна отправиться в Европу и в Палестину, и он сразу же нацарапывает на клочке бумаги адрес своих родственников в Иерусалиме. Это происходит походя, между прочим, и мы совершенно не подозреваем, какими это будет чревато серьезными последствиями.