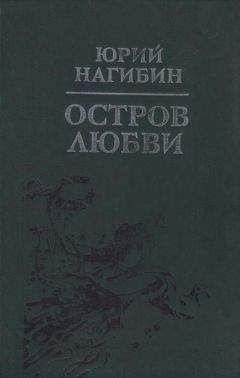Юрий Нагибин - Любовь вождей
Афанасьича побочные соображения не интересовали, а суть задания он давно уже усвоил. Хладнокровие Афанасьича чем-то задело Шефа. Он спросил, глядя в упор:
— А если тебе, прикажут меня замочить, как поступишь?
— Никто мне такого не прикажет, — спокойно ответил Афанасьич.
— Нет, а все-таки… Представь себе такую ситуацию.
— Как я могу ее представить, если выше вас никого нет?
— Ну а понизят меня? — домогался Шеф, сам не зная для чего.
— Я вас очень уважаю, — тихо сказал Афанасьич.
Шеф не понял застенчивого сердца Афанасьича и затосковал. «Ну, договаривай. Уважать-то уважаешь, а долг служебный выполнишь. И не верхний я вовсе, есть повыше меня. Да и не в этом дело… Нет у нас личной преданности, только креслу. Пора на покой этому судаку. Жаль, что нельзя его просто на пенсию: годы не вышли и знает слишком много. Второго такого не скоро найдешь. Но как говорится, незаменимых людей нет».
— Ладно, Афанасьич, ты побежал. Не то в клуб опоздаешь. Хочешь на посошок? Вольному воля. Была бы честь предложена. Бывай!
Он вышел вслед за Афанасьичем в прихожую, затворил за ним дверь, наложил засовы, вернулся в кабинет и по внутреннему телефону попросил жену зайти к нему.
И она пришла. Она вшумела в комнату, «как ветвь, полная цветов и ягод», так, кажется, у Олеши? И, как всегда, ее появление отозвалось сушью в горле. Ее спелая, налитая прелесть, уму непостижимые формы неизменно заставали его врасплох. Она была чудесна двадцатилетней, но с годами, особенно шагнув в зрелость, делалась все лучше и лучше, как бы стремясь к заранее предназначенному наисовершеннейшему образу. Иные женщины перегорают в молодости, большинство — к сорока (тридцать девять не возраст — состояние, которое длится годами), а Мамочка широко отпраздновала свое сорокалетие и в том же победном сиянии двинулась дальше.
Высокая должность и соответствующий ей чин, то особое положение, в которое его ставила дружба с Самим, весь достаток были выслужены им самоотверженным трудом, бессонными ночами, личной верностью, беззаветной преданностью социализму в его нынешней, завершенной, как спелое яблоко, форме (в этом немалая заслуга его Друга по техникуму-институту), но Мамочку, если начистоту, он не заслужил. Она была ему не по чину. И когда пятнадцать лет назад Высокий друг положил на нее глаз — тогда свежий, карий, а сейчас похожий на тухлое яйцо, — он не ревновал и даже не переживал, приняв как должное. Мамочка была создана, чтобы царить. Все же царицей она не стала — жениться по любви не может ни один король. Осталась с ним, не только не нарушив, но еще более укрепив узы верной, хоть и неравной, дружбы. Мамочка была для него трофеем, который каждый день надо завоевывать заново. Что он и делал.
— Опять наглотался? — проницательно определила Мамочка.
В другое время он стал бы изворачиваться, врать, но сейчас верил в свои козыри.
— Маменция! — сказал он развязно. — Докладываю: задание выполнено, противник уничтожен, взяты трофеи.
И протянул ей сноп ослепительных искр. Мамочка отличалась завидным хладнокровием, но сейчас она дрогнула. Всем составом и по отдельности: качнулся высокий, как башня, шиньон («шиньонским узником» называл его Сам в добрую минуту, явно на что-то намекая) и в разные стороны метнулись под капотом тяжелые груди.
— Да-а, это предмет, — сказала она осевшим голосом. — Так бы тебя и поцеловала.
— За чем же дело стало?
— Не выношу сивухи… Ладно, я тебя сегодня приму, только прополощи рот.
— Будет сделано, товарищ маршал!
— Подумать страшно, что такая красота могла уплыть за бугор. Вот уж верно: что имеем, не храним…
— …а потеряв, не плачем, — подхватил муж и добавил с невинным видом: — Может, сдадим в Алмазный фонд?
— Еще чего! Чтобы ее стащили? Нет уж, у нас сохранней будет. Как там с театралом?
— С каким театралом?
— Ну, с отъезжантом. Из ГИТИСа.
— Все нормально. Послезавтра Афанасьич его навестит.
Она сказала задумчиво:
— Не нравится мне твой Афанасьич. Больно глубоко залез.
В унисон бились их сердца и трудилась мысль. Если у него еще оставались какие-то сомнения насчет Афанасьича, то теперь они исчезли без следа.
— Не беспокойся, Мамочка, я уже принял решение.
Она взглянула не него с неподдельной нежностью. Конечно, он был не блеск, впрочем, как и все нынешние мужики: выпивоха, необразованный, малокультурный, но под шапкой у него кое-что имелось. А жить можно с любым, только не с дураком. Нет, дураком он не был.
— Долго не канителься, — сказала она. — А то я усну…
Тяжелодум Афанасьич тоже не был дураком. Весь долгий путь от дома Шефа до клуба он думал о странном вопросе, которым тот ошеломил его перед уходом. Вопрос этот был покупкой, но Афанасьич не купился, поскольку никогда не злоумышлял против Шефа. А вот Шеф себя выдал. Он чего-то боится, не доверяет Афанасьичу и хочет от него избавиться. Афанасьичу в голову не приходило подвергать сомнению правовую сторону своей секретной службы. Он исполнитель, что прикажут, то и делает, остальное его не касается. Нечего ломать мозги, отчего да почему переменился к нему Шеф. Важно одно — это приговор. Но от приговора до исполнения есть время. Можно опередить Шефа и самому нанести удар. Замочить Шефа, конечно, очень нелегко и… жалко. Эдак вовсе один останешься. Чистая женщина — для спанья, а душа осиротеет. А если Мамочку? Небось это она сбила Шефа с толку. Бабы подозрительны, да и не умеют ценить мужской дружбы. Ее убрать куда проще и безопасней. Подымать волну не станут. Спишут на самоубийство. А Шеф поймет намек. Поймет, что Афанасьич обо всем догадался, но не захотел его губить. А коли так, почему не сохранить партнерство? Старый друг лучше новых двух.
Успокоившись на этот счет, Афанасьич отворил тяжелую дверь клуба и шагнул в тепло, свет, музыку.
Повесть о том, как не ссорились Иван Сергеевич с Иваном Афанасьевичем
— Мне ваше лицо знакомо, — сказал человек по имени Иван Сергеевич человеку по имени Иван Афанасьевич, когда они с полчаса прождали автобус на остановке возле клуба «Крылья Советов».
— И мне ваше лицо знакомо, — сказал Иван Афанасьевич. — Вы, случайно, не артист?
— Нет, — с сожалением сказал Иван Сергеевич. — А вы?
— И я нет, — признался Иван Афанасьевич. — Мне кажется, что я вас видел по телевизору.
— Н-не думаю. Разве что в толпе. Я иногда хожу на разные московские встречи, митинги.
— На какие?
— Ну, вот когда у Минина и Пожарского собирались…
— А-а!.. Я туда не попал — приболел. Теперь я знаю, где мы виделись. Только что в клубе «Крылья Советов».
— Точно!.. Хорош был хор Донского монастыря! И доклад интересный. Вот не знал, что масоны такие гады.
— Первая пагуба для России.
— Теперь и сам вижу. Докладчик все по полочкам разложил.
— Так это же Запасевич. Самая светлая голова в «Памяти». Вы не были на его лекции о сионских мудрецах?
— Н-нет… Может, это было при закрытых дверях?
— «Память» не «Апрель», у ней все в открытую, — улыбнулся Иван Афанасьевич. — В пятницу интересная лекция — «Расчленение женского тела». Читает профессор Омельянов.
— А зачем его расчленять? — робко спросил Иван Сергеевич.
— В целях самообороны. — Иван Афанасьевич осмотрелся. — Если инородцы перейдут в наступление.
— А это возможно?
— Вы разве не видите, что делается?
Иван Сергеевич тяжело вздохнул:
— Затаптываются наши идеалы.
— О том и речь.
Автобуса все не было, и два человека, случайно познакомившиеся и ощутившие взаимное доверие, решили пройтись пешком до Ленинградского проспекта. Быть может, оттого, что им не хотелось терять наметившейся близости, да и день был по-весеннему светел, прогрет уже набравшим силу апрельским солнцем, они избрали более дальний путь — мимо Академии им. Жуковского.
В маленьком парке возле красных стен бывшего Петровского дворца свежая зеленая трава пожелтела от одуванчиков, распустившихся в этом году необычайно рано и дружно. Кое-где уже запушились белые шарики, и в воздухе проплывали зонтички семян.
— Благословенная пора! — растроганно произнес Иван Сергеевич. — Весь год ее ждешь, а приходит — и не успеваешь надышаться.
Иван Афанасьевич согласно кивнул.
— Давно на пенсии?
— Да уж десятый год.
— Неужто вы на столько меня старше?
Иван Сергеевич был чуть выше среднего роста, плечист и крепок, как кленовый свиль. Его не старила, скорее молодила уже загоревшая гладкая лысина, которую он не пытался замаскировать заемом у густых висков.
— Я участник Великой Отечественной войны. Мне уже за седьмой десяток перевалило.
— По-хорошему завидую, — тепло сказал Иван Афанасьевич. — Не годам, разумеется, чему уж тут завидовать, хотя вам никогда ваших лет не дашь, а боевой биографии. Не сподобился по молодости лет защищать Родину с оружием в руках. Я тридцать первого года.