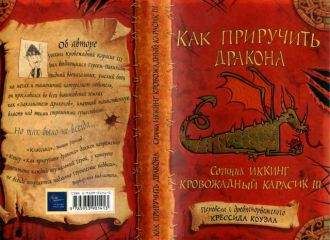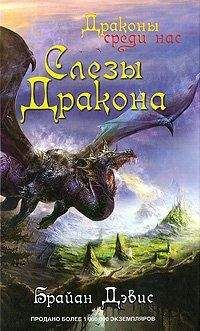Джон Краули - Эгипет
От моих былых владений только два осталось у меня теперь. Одно из них — укромный замок в здешних лесах (куда я и направлю вскорости свой путь), другое же — одинокая башня, далеко-далеко от этих мест, в пустынном гористом крае. Именно туда вам и предстоит теперь отправиться.
И если мальчик вырастет в том уединенном месте и станет мужчиной, и если будет он слаб телосложением или дух его будет пуглив и нестоек, то вам надлежит сделать из него служителя церкви.
Если же, достигнув юношеских лет, он выкажет признаки телесной силы и доблести, а также высокого духа, и если станет стремиться к рыцарским подвигам, вам не следует препятствовать его желаниям, но отпустить его в странствия по миру, туда, куда повлечет его сердце».
Он оторвался от книги и с силой зажмурил глаза, чтобы сдержать слезы.
— Ведь правда, ты вырастешь хорошим мальчиком, — сказал он. — Ты вырастешь хорошим мальчиком и станешь защищать маму, как рыцарь.
Пирс в своем углу кивнул в ответ.
«Вот так и вышло, — сказал Аксель, с трудом отыскав в книге нужное место, — вот так и вышло, что король Пеллинор удалился в укромный замок, где король Артур нашел его и дал ему бой; мать же Персиваля удалилась в одинокую башню в диких горах, о которой сказал ей король Пеллинор, — которая вздымалась под самые небеса, как огромный каменный перст. Там она и пребыла с Персивалем, пока не исполнилось ему шестнадцать лет; и все это время он знать ничего не знал о мире, ни о том, каков этот мир из себя, и рос свободным и диким, и невинным, как малое дитя».
— Сынок ты мой дорогой, — Аксель нагнулся к Пирсу, так, словно хотел уткнуться головой ему в колени, но не стал, а вместо этого стиснул лоб ладонью. — Ты вырастешь сильным, ведь правда? Конечно, вырастешь и мужественным, и невинным; и если станешь стремиться к рыцарским подвигам, ради всего святого, не дай им остановить себя. Только не дай им себя остановить.
Он страдальчески закинул голову вверх.
— Не слушай их, если они станут внушать тебе ненависть ко мне, — сказал он. — Я твой отец. Не дай им внушить себе ненависть к собственному твоему отцу. — Актерские интонации, тщательно рассчитанная мрачность тона — все пошло прахом; Пирс лежал и с ужасом смотрел на взрослого человека, впавшего в совершенно детский безудержный приступ горя.
— Ведь ты же вернешься, — всхлипывал Аксель. — Ты вернешься, настанет день, и ты ко мне вернешься.
Пирс ничего не ответил. Он не знал, действительно ли дом в Кентукки похож на вознесшийся к самым небесам каменный перст посреди диких гор, он не знал, вернется он или нет в этот укромный замок; он знал только что никто и никуда его не отсылает. Он знал, что мама увозит его с собой, бежит отсюда прочь, и он бежит вместе с ней; а еще он знал, что красавцем его никак не назовешь.
В конце концов он вернулся. Но теперь настало время снова отправляться в путь.
За ужином он обо всем сказал отцу, начав с продажи книги — правда, цифру он слегка занизил. Аксель застыл в священном ужасе, а потом рассыпался в поздравлениях: признания более высокого, нежели писательство, он не знал; сам он, несмотря на обширную и довольно-таки беспорядочную эрудицию, с большим трудом справлялся с письменной речью, даже на уровне простейшего — к родственникам — письма.
Потом настала очередь решения оставить Барнабас. Здесь реакция была скорее сдержанной: в шкале ценностей Акселя учительская профессия стояла разве что чуть ниже писательской. Пирс заверил его, что если он решит вернуться, Барнабас примет его обратно с распростертыми объятиями, а кроме того, есть и другие колледжи, в других местах.
— В других местах, — повторил Аксель. — Ну да, конечно.
В других местах, да, я понимаю.
Решение окончательно оставить Нью-Йорк было встречено гробовым молчанием. Аксель был ошарашен и напуган, его подвижное — как из резины — лицо разом осело и вытянулось. Поначалу он решил было воспринять эту новость всего лишь как эксцентрическую выходку, как нелепую мысль, ни с того ни с сего пришедшую в голову сыну, и тихой кампании неповиновения будет достаточно, чтобы она прошла как дурной сон; довольно нелепо со стороны Пирса, если уж он задумал писать книгу, покинуть средоточие величайших в Америке библиотек, архивов и картинных галерей и удалиться в непролазную глушь (здесь Аксель нарисовал картинку сельской жизни, основанную, судя по всему, на фильмах с Марджори Мейн [96]: козлобородая деревенщина дается диву при виде грамотного человека). Пирс мягко стоял на своем. И в конце концов Аксель затих.
— Я и так вижу тебя раз в год по обещанию, — сказал он. — А теперь мы вообще перестанем видеться.
— Да брось ты, — сказал Пирс. — Черт подери, да оттуда добраться до этих мест не намного труднее, чем, скажем, из Манхэттена. И по времени, и по затраченным усилиям. Я буду наезжать. Часто. Ради этих самых библиотек. Мы с тобой не потеряемся.
Но Аксель был безутешен.
— Нет, Пирс, не надо меня обманывать. Где, где же этот официант, Мозельблюмхен. Назавтра в свежие поля, и в дали дальние. Лей, лей.
Наступает такой момент, когда даже самый самовлюбленный эксцентрик понимает, что он всего лишь эксцентрик, понимает, что привычная система связи между ним и миром разрушена — или не существовала никогда. Аксель это понял. Он понял, что его каналы связи с миром пусты и засорены помехами, и теперь оплакивал собственное одиночество.
Возвращение Пирса в город уже не в качестве мальчика, которого Аксель озадачивал и сбивал с толку, а в качестве взрослого мужчины, который находил его забавным и небезынтересным человеком, стало для Акселя подарком судьбы, нежданным и оттого еще более ценным. И он старался пользоваться этим на полную катушку, подолгу висел на телефоне, ведя с Пирсом бесконечные путаные разговоры, настаивал на том, чтобы сходить вечером в музей или на органный концерт — и повторяющиеся раз от раза отказы ничуть его не смущали. Пирс очень много значил для него, он часто об этом говорил; и скорее не как сын — при всей непрошибаемой серьезности, с которой он играл отцовскую роль, надолго ее все равно не хватало, — но как друг, всегда готовый тебя понять, или по крайней мере терпеливо выслушать.
Пирс старался быть терпеливым. Он пытался выгородить местечко для Акселя в рамках собственной жизни — жизни, в которую Аксель втискивался с изрядным трудом. Он то и дело ловил себя на раздраженной и удивленной мысли о том, что этот нелепый человечек — на целую голову ниже, чем он сам, толстый, с чуткими, сужающимися к кончикам пальцами и маленькими ножками, которыми он до сих пор гордился, — его отец; он совершенно не помнил его в этой роли в те годы, когда сам был ребенком. Выходя с отцом в город, он окидывал себя взглядом со стороны и тут же вспоминал о тихом мальчике из комикса, за которым по пятам неизменно следовал крестный из маленького народца, с крыльями как у стрекозы и с неизменной сигарой во рту, как бишь его звали, Макфили, Гилхули, всякий раз он собирался спросить об этом Акселя и всякий раз забывал. Аксель наверняка помнит.
— Забери меня с собой, — умоляющим тоном сказал Аксель, снова впадая в актерство. — Унеси, взвалив на плечи, как старика Анхиза. [97]
— Ты сможешь приезжать ко мне. Там наверняка найдется свободная комната. Или, по крайней мере, веранда на солнечной стороне.
— Веранда на солнечной стороне! Веранда, на солнечной стороне. А как люди ездят в такого рода места — а потом еще и обратно? Должно быть, там ходят автобусы. Н-да, автобусы.
— Туда действительно ходят автобусы. А со временем я, должно быть, куплю себе машину.
— Машину!
Единственный опыт художественной прозы, который был у Пирса уже во взрослой его жизни, состоял в попытке набросать портрет отца. Он хотел озаглавить его «Человек, который любил Западную Цивилизацию», и даже какое-то время прилежно усаживал себя за письменный стол, но его описания застольных разговоров Акселя на бумаге звучали фальшиво, Аксель казался в них каким-то напыщенным, самовлюбленным позером, им не хватало живого Акселева чувства, его искренней пылкости и страсти. А захватывающие дух перипетии его жизненного пути и вовсе выглядели невероятными, надуманными от первого до последнего слова — собственно, как и в жизни, когда Аксель, на голубом глазу, почти не умея врать нарочно, пересказывал их Пирсу.
Пирсу приходилось верить в то, что это был реальный мир, в котором действительно приходилось жить Акселю, — пусть даже сам Пирс не имел к этому миру никакого касательства. После того как Пирс и Винни уехали в Кентукки, и до того, как заработанные на телевидении деньги дали Акселю возможность снова более или менее твердо встать на его маленькие ножки, прошло несколько лет, проведенные Акселем в состоянии, близком к нищете, бездомности и бродяжничеству; собственно говоря, и в последующие годы ему случалось наносить благотворительные визиты или каким-то другим, не всегда преднамеренным образом соскальзывать в сумеречный мир, населенный опасными, но добрыми по сути бывшими капитан-лейтенантами ВМФ, вышедшими в тираж бродвейскими актрисами, которые тихо увядали в дешевых гостиницах, в окружении свидетельств былой славы, учеными евреями из пыльных книжных лавок, которые сразу замечали под мятой потертой одеждой истинную сущность Акселя; рабочими-священниками, которыми Аксель искренне восхищался, такие они были мужественные и чистоплотные, и вкрадчивыми лицемерами из Армии Спасения, чьих ласковых забот (собственные Акселя слова) он в свое время причастился.