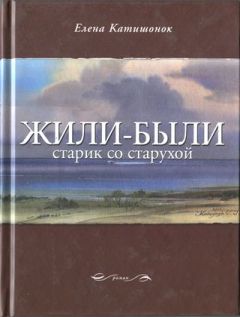Михаил Шишкин - Письмовник
Все озлоблены до дикости. Зверства повсюду.
Китайские солдаты стреляют из засады, скрывшись в зарослях гаоляна, а в случае опасности сбрасывают свои куртки, кидают оружие, вылезают, кланяются, выдают себя за мирных жителей. И японцы, и англичане, и наши убивают теперь всех, кого встретят.
При мне казаки изрубили нескольких человек, на которых наткнулись в поле. Может, это крестьяне прятались от проходивших войск, кто теперь разберет? И кого это волнует? Ни о смерти этих людей, ни об их жизни никто никогда не узнает.
Я видел, как прикалывают человека штыком, а он еще хватался руками за этот штык, пытался отвести его.
В одной деревне захватили парня и при мне его допрашивали, а Кирилл переводил. Пленный сидел на полу, запрокинув голову назад, потому что руки у него были связаны за спиной его собственной косой. Кожа да кости. И глаза, полные ненависти и страха. Грязное, изможденное лицо. На все вопросы парень отвечал «мию», что значит «нет». Ему выстрелили в ступню, он завизжал, закрутился на полу, брызгая кровью, но все равно отвечал «мию». Его вытащили на двор и бросили в колодец.
Сашенька, я устал, смертельно устал.
Мне дает силы только то, что ты меня ждешь.
Пишу на следующий день. Кирилл убит.
Вот как это произошло. Несколько наших солдат послали в соседнюю деревню, с ними пошел Кирилл. Их долго не было. Послали еще людей, те вернулись и сказали, что в деревне была засада. Мы бросились туда.
Я не сразу понял, что я увидел.
Вернее, сразу понял, но не хотел понимать.
Все погибли. Но сначала их замучили. Тела были изуродованы. Я не хочу писать о том, что я увидел.
Наши стали поджигать дома, но под дождем ничего не горело.
На другом конце деревни нашли старика и притащили его волоком, за щиколотки. Он весь был в желтой грязи. Когда его бросили, он так и остался лежать лицом вниз. Но он был жив. Сапогом его перевернули на спину.
Старик с длинной седой косой, обмотанной вокруг шеи.
Его стали бить сапогами и прикладами.
Я вступился, попытался удержать их, но меня отпихнули так, что я поскользнулся и упал в жидкую глину.
Ему наступили каблуком на кадык, и я слышал хруст горла.
Сейчас мы пьем чай. Хорошо попить горячее.
Какой был смысл у этого дня? Какой глупый вопрос. Я всю жизнь задаю себе глупые вопросы.
Наверно, если был смысл у этого дня, то лишь в том, что он прошел.
Еще один день закончился и приблизил нашу встречу.
***
Володенька!
Ты мне очень нужен, потому что только с тобой я — настоящая.
И ты все во мне понимаешь, даже если я сама чего-то не могу понять.
И так хочется делиться с тобой только хорошим, но мне так важно делиться с тобой всем!
Я вовсе не собираюсь жаловаться, наоборот, мне нужно поделиться с тобой моим счастьем.
Я почувствовала себя счастливой — в тот момент, когда остальные испытывают горе.
Я никому не смогу это объяснить. Только тебе. Ты поймешь.
Вот я узнала, что такое дежавю: казалось, только что получила в руки свидетельство о смерти мамы, а уже оформляю документы на отца. Те же бумаги, те же слова. Та же суета с похоронами, странные ненужные обряды, ненастоящие церемонии — никак с настоящими мамой и папой не связанные.
Папа умер дома. Так и хотел.
Похороны были какие-то бестолковые.
Лифт маленький, пролеты лестниц узкие, и грузчики намучились, спуская папу с пятого этажа. Края гроба то и дело бились о стены и перила. Грузчики перекрикивались. На шум из открытых дверей выглядывали соседи. Несколько женщин стояли у подъезда, прикрыв рты ладонями.
Во дворе мальчишки играли в футбол, кричали, потом сбежались смотреть на похороны. Мяч выскочил, подскакал к самому гробу.
Поехали в крематорий.
Папа лежал в гробу, сложив руки, как паинька. Я гладила его спокойную грудь, которая не ходила больше ходуном, как в последние минуты перед смертью.
Убрала ему прядь со лба и увидела слезы на неумело выбритых мною щеках — мои слезы.
Жара, на папу садились мухи, я отгоняла их.
В крематории, пока ждали на скамейке, видела только костяшки пальцев. Папин живот вздулся от таблеток, возвышался над краями гроба. Я невольно сравнила взглядом его сложенные руки на груди с оконным шпингалетом за ними, и вдруг мне показалось, что папа дышит.
Среди пришедших были какие-то женщины, которых я не знала. Любовницы? Сожительницы? Любимые? Любившие? Ничего не знаю.
Когда целовала папу в последний раз, заметила, что ему на плечо села божья коровка. Смахнула ее, а то еще сгорит.
Краем уха услышала, как кто-то поинтересовался, какая температура в печи.
Когда закрывали крышку, я видела, что папа улыбнулся.
Сейчас сижу и читаю тетрадь, в которую он записывал что-то в последнее время и не показывал.
Отец давно говорил, что собирается писать мемуары. Может, он и действительно хотел. А получилась тощая тетрадка, в которой выдранных страниц больше, чем исписанных.
Шутил, что пишет книгу жизни.
— Это, Зайка, моя брошюрка бытия. Вот допишу до конца, до самой последней точки, тогда прочитаешь.
После инсульта я много времени провела у его кровати. У него парализовало правую сторону. Угол рта и века перекосило, вместо слов была каша, но я кое-как научилась его понимать. Он еще не вставал, но уже снова стал делать в тетрадке записи левой рукой. Я предлагала ему записывать — не хотел.
Вообще он довольно быстро восстанавливался. В больнице пробыл совсем недолго — не хотел там оставаться. Говорил, что медсестры некрасивые, заглядывают редко и делают только то, что положено делать с тяжелобольными.
Патронажная сестра, которая приходила домой, чтобы заниматься с ним восстановительной гимнастикой, возмущенно выговаривала мне, что он хватает ее здоровой рукой за все выступающие части.
Я отвечала:
— Ну, значит, дела идут на поправку.
— Но я ничего не могу делать, потому что ваш отец хватает меня за грудь!
— Дайте ему по руке! Она же здоровая.
Отцу я говорила:
— Что ты творишь? Не можешь потерпеть?
Он мямлил что-то искривленным ртом.
И вот теперь я листаю его записи, а там — ничего. Вернее, ничего из того, что я хотела найти. Почти ничего про меня, про мое детство. Про меня на самом деле только одно упоминание:
«Иногда думаешь о своей жизни: все коту под хвост. А иногда: да нет, вот Сашку сотворил. Вот ею спасаться и буду. Мне за нее, может, вся моя чумовая жизнь и простится?».
Я, наверно, ждала, что узнаю что-то про себя, про ту сторону жизни, которая была скрыта от взгляда ребенка. Вместо этого какие-то разорванные записи обо всем на свете и ни о чем.