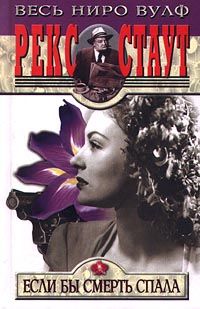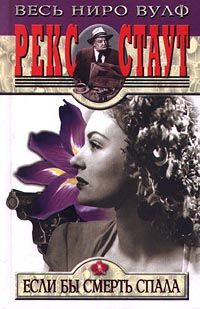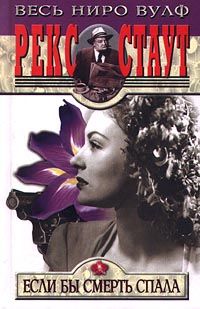Хосе Сампедро - Река, что нас несет
Он произносит это стоя и улыбается, хотя за его улыбкой легко угадать волнение.
— Но, дон Педро, вам не хватает лампочки, — тоже шутливо говорит Шеннон.
— Вам она не нужна. Вы мой сообщник.
— Хм… Не такой уж я заядлый либерал.
— Как это? Вот те на! Но это невозможно! Убеди его, Сесилия.
— Куда мне! — говорит девушка так, будто хочет сказать: «С мужчинами лучше не связываться». — Пойду посмотрю, как там с ужином.
— А Себастьяна на что?
— Ты же знаешь, дедушка, она все делает сама, но сердится на меня, если я иногда не зайду и не сделаю вид, будто распоряжаюсь, — ласково отвечает Сесилия.
Они молчат, пока старый идальго провожает нежным взглядом внучку. Вечерние сумерки вытесняют остатки дневного света. В домах, виднеющихся на пригорке, вспыхивают едва заметные желтоватые огоньки.
— Я не говорю, что вы либерал; я только сказал, что вы мой сообщник. Я понимаю, что такой человек, как вы, но может быть похож на меня.
Оп смолкает, и кажется, будто перед его мысленным взором проносятся картины минувшей жизни.
— Было время, когда мне показалось, что пора дать новое название идее, пришить новый ярлык, чтобы не отпугивать молодежь, которая не жалует сюртуков, цилиндров и… честно говоря, зеленых лампочек. По этого мало. Кризис слишком глубок. Слишком шатки общественные устои. Это сразу же заметно, едва мы отрываемся от газет, мешающих нам видеть, точно шоры, и сопоставляем все, что там написали за столетия… Я уже не могу быть другим; я стою на якоре своего времени. Но и оттуда я вижу голод, невежество, страдания и не приемлю трусливой отговорки, что так будет всегда. Я не могу с этим смириться, слишком уж удобно это тем, кто не знает нищеты. Я вижу и кое-какие улучшения, во всяком случае, вчерашние бедствия отступили, теперь остается вырвать их с корнем. Нет, негоже говорить, что завтра появятся новые бедствия и человек все равно будет несчастен; для меня это не оправдание, оно не отнимает у меня ощущения, что и я виноват, как соучастник. А раз так, раз механизм износился — долой его!.. Я говорю вам все это, — заключает он, помолчав, — чтобы вы не считали меня черствым сухарем. Я уже не могу стать другим, и тем не менее я готов на все. А это не так уж мало, поверьте мне и не презирайте меня.
— Дон Педро, ради бога! Я всегда восхищался вами! — восклицает Шеннон так искренне, что возразить ему нельзя. — А теперь еще больше… Я хоть и молод, но никогда не смог бы сказать так, как сказали вы только что… Но разве мы можем разрушать, ничего не создавши в мыслях?
— А как создашь, если нынешние телескопы — главная помеха будущему? Это архитекторы могут заранее спроектировать, а жизнь распоряжается по-своему, она ничего не предусматривает заранее. Колумб направлялся в Азию, а открыл Америку. Французская революция стремилась к республике Катона, а к власти пришел Наполеон; Наполеон создавал Империю, а посеял либерализм… И разве варвары помышляли о новом мире? Рим уже не сопротивлялся, он был повержен: они разрушили его, и на месте развалин зародилась Европа. Разве могли это предвидеть римские сенаторы, которые призывали к терпению, пока улаживали свои собственные дела?
— Слушая вас, я вспомнил крестьян из одной итальянской деревушки. Вместо обычных «Долой Муссолини!» и «Долой фашизм!», которые красовались повсюду во время нашего наступления, они написали на степе огромными буквами: «Долой все!»
— Превосходно, просто превосходно… Истинный девиз кельтиберов: «Долой все!»
— Что же получается, дон Педро, выхода нет? Как мы можем действовать, ни во что не веря?
— В человека, в человека надо верить! В его достоинство, произрастающее из его сути и крепнущее в свободе. Разве системы не обречены? Надо вернуться к истоку — к человеку, к существу первозданному, первоэлементу истории! Не сковывая его надуманными ценностями, не строя предварительных проектов. Пусть человек идет своим путем. И он придет!
— К чему?
— Один бог знает! Или вы думаете, что узнали? Человек! Человек — вот моя надежда!
Ужо ночь. Вокруг зажженной лампы кружит мошкара. Шеннон молчит. Да и что сказать?
— Да, это так, — признает он, — В глубине души я тоже верил в него, пока не открыл для себя, что такое настоящий человек… Знаете, почему я высадился в Испании? — взволнованно проговорил он. — Пароход, который вез демобилизованных, пристал к берегу в Аликанте. Я стоял один, мне было очень плохо… И вдруг я заметил, что уже некоторое время наблюдаю за рыбаком, невозмутимо сидящим на пристани. Он неторопливо резал хлеб с уверенным и спокойным видом. «Что, закусываешь?» — спросил я его, движимый каким-то непреодолимым порывом. «Хлебом с навахой», — ответил он мне, с наслаждением вкушая всухомятку, по своей бедности… Нет, не всухомятку, а приправленный солью стали. Неразлучные хлеб и железо, еда и смерть — суть испанской жизни. Как непохож он был на римлянина, требовавшего хлеба и зрелищ!.. И мне захотелось стать таким, как оп; подчиниться, как и он, последней правде: правде хлеба и навахи; постичь тайну жизни. Вот почему я высадился в Испании. Но до этой минуты я так и не смог постичь… Спасибо вам, дон Педро.
Оп понял, что если имя его любви или его страсти — Паула, то у его надежды более высокое имя: человек и его суть; его сила и мятежность; его дух и его свобода.
Сесилия снизу зовет их ужинать. Мужчины пожимают друг другу руку и плечом к плечу спускаются с ночной высоту к спокойствию освещенной столовой; в круг будничной жизни без вспышек; в надежное пристанище Сесилии.
Потом, уже поздней ночью, Шеннон спросит себя, действительно ли его страсть зовется Паула. А может быть, это просто зависть, вызванная тем, что он не смог тоже стать жестоким, простым, непосредственным — крепким деревом в костре жизни? Нет, решит он, Паула заключает в себе все, как земля. Эта женщина из плоти и крови — сама душа сплавного леса, первый посланник богов, который провел его через открытые врата в горе.
А позже — может быть, через день, может, через педелю после того длинного разговора с доном Педро — Сесилия спросит его:
— Вам не надоедает дедушка?
Они совершают недалекую прогулку к оврагу с соляным источником. Шеннон уже может помногу ходить, — ведь прошло столько времени! — хотя и с осторожностью. Тропинка змеится вдоль деревянного желоба для соленой воды между двумя лысыми холмами, и солнечные блики играют на гипсовых кристалликах, словно это маленькие зеркальца для жаворонков.
— Почему? Напротив. Он удивительный человек!
Они выходят на довольно большую замкнутую площадку с гладкой белой поверхностью, будто из отшлифованного мрамора. Сесилия объясняет ему, что это «сжатие»: сульфат натрия от зимней стужи «сжимается», как только на него попадает струя воды из источника, а поваренная соль, растворяясь, оседает в водоемах.
— Будто снег среди холмов, верно? — говорит Сесилия. — Мне нравится ходить сюда, очень нравится.
Шеннону становится жаль се.
— Вам бы понравилось и многое другое… Вы здесь одна, с двумя стариками… Девушке в вашем возрасте…
— О чем вы? — Она смотрит на него изумленными, непонимающими глазами. — Ах, да: пикники, кино, танцы… Все это выеденного яйца не стоит. Мне хорошо здесь с дедушкой. Он очень добрый! Иногда, правда, он говорит о непонятных вещах, но я все равно с удовольствием слушаю.
Они спускаются вниз по другому оврагу, пересохшей теснине. Щебечет птица на одиноком вязе — единственном дереве на залитом солнцем холме. Если посмотреть вверх, видны лишь зеленая ветка да голубое небо. Дрожат темно-зеленые листья с желтыми прожилками. Эти и видит Сесилия, пока молчит, — вблизи зеленое, трепетное, преходящее, а дальше — голубое, нетленное, вечное.
— Знаете?.. — вдруг говорит она. — Когда у меня уже не будет дедушки, я постригусь в монахини…
И Шеннон чувствует, как сгущается в воздухе исходящий от нее аромат, а она торопится предупредить его:
— Ради бога, не говорите дедушке! Он огорчится!
— Не скажу, — обещает Шеннон серьезно и добавляет: — Пусть это будет нашей тайной.
Девушка еще больше краснеет и опускает голову.
Позже, немного поразмыслив, Шеннон все же приходит к выводу, что должен рассказать об этом дону Педро.
— Ничего удивительного, — грустно говорит идальго. — Я предчувствовал, вернее, ждал этого. Что еще могло взбрести в голову бедной девочке с ее нежной душой, если она учится в монастырской школе? Я с удовольствием отдал бы се в другую школу, но здесь только эта… Я тешил себя надеждой, — посмотрел он вдруг прямо в лицо Шеннону, — когда вы к нам попали. Она ведь сразу влюбилась в вас!
— Дои Педро, я бы почувствовал… — начинает Шеннон, испытывая неловкость и желая оправдаться.
— Знаю, знаю, вы не виноваты… Но как вы могли не заметить? Ну конечно, вы думали о другой! Я и это увидел!.. И все же я питаю иллюзию: было бы так прекрасно умереть подле вас двоих… Правда, мне пришлось быстро с ней распроститься. Вы пришли сюда не за любовью. Еще одно чудачество старика!