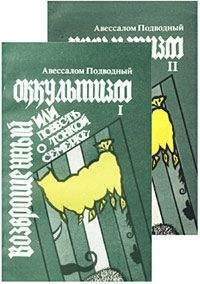Журнал «Новый мир» - Новый Мир. № 5, 2000
Страшный новорусский анекдот, вечерок на вилле близ Диканьки… Корсчета, маржа, инвестор, трейдер, трансферт, нерезидент…
Боюсь! Боюсь! Проснуться и забыть…
«Трансфертный» кошмар левинского персонажа — не пародия на бойкую газетную трепотню. Или не только пародия. Термины, теряя по дороге свое истинное значение, проникают в живую речь, превращаются в языковых монстров, владеющих нашими представлениями. Просторечие становится сказово-демоническим.
Я неликвидный! Отпусти меня!.. —
это звучит как просьба о снятии проклятия (порчи). Заклятие не смехом, а новейшим жаргоном.
Поэтическая культура, таким образом, вбирает в себя нагло расширяющиеся субкультуры быта, финансов, может, даже производства. Их смыслы и бессмыслицу. Блинизация (от просторечной частицы «блин») слога оговорена заголовком подборки (интересно перевести сие на немецкий: wohinblin-dahinblin). Междометно-грубоватая добавка, впрочем, может играть роль некоего фонетического ля-ля-ля.
Уходит на запад кудбаблин-тудбаблин,
спокоен, взволнован, упрям и расслаблен.
Несут его в море колибри-корабли,
палят гарнитуры большого калибра,
гремят полонезы прощальные вьюги,
и машут платками подруги-задрыги.
Но дело не только в «ля», а в детском подходе к языку. Когда недостает слов, их выдумывают, когда опять не хватает — берут в словаре (например, гарнитура — не только полиграфический термин, но и технический: совокупность приборов, деталей, узлов). Как замечал Ленин, русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности. Левин здесь небольшую поправочку делает: по поэтической надобности. Тут и «задрыги» воспринимаются не как с улицы взятые, а как у французов, скажем, украденные… Ибо для нашего автора нет разницы между каким-нибудь тупиком Свободы (фотодокументально запротоколировано наличие такого места в Уфе) и, предположим, Елисейскими полями. А его «Народная песня» представляет нам красивый, почти хороводный взгляд на этносы — взгляд человека, в них, то есть в народностях, специально запутавшегося. Потому что чем больше мы в прозе рассуждаем о национальном самоосознании, тем больше приходим по этому вопросу в полное бессознание.
Я хлебну еще отравы
и усядусь на пеньке,
и народы, словно травы,
зашумят на языке!..
Общественно-политический подтекст этой мастерской игры в слова столь же существен, как существенна рама для понимания картины. Народы-дети, зашумев на языке, превратятся в музыку. Возможно, в божественную музыку. И страх, таким образом, превратится в прах…
Узоры «словоподтеков» — это не заумь, а скорее — до-умь. Во всяком случае — до взрослого рационального умозрения. И поездка на автобусе под наблюдением кондукторбов-кондбукторов, и игра дурака-дудака на дудочке-дурочке в «Гундосой песне» («игдает падтию любви»), и парикмахер, командующий: «Извольте бриться!» (в противоположность мастеру у Маяковского, испугавшемуся просьбы: «Причешите мне уши»)… Любая бессмыслица здесь художественно осмыслена — и через ритм, и через метр, и через причудливые сближения. В той же «Гундосой песне», например, содержится дурацкая инвектива в адрес «модальных удодов» (то есть моральных уродов). А человек, испорченный филологическим образованием, читая эту пиесу, может вспомнить логико-грамматическую категорию модальности. Так что дудочка дурачка — инструмент, возможно, философский.
Такие серьезные выросли дети! «Вот ведь как один маленький человек может помочь понять обществу другого, большого» (Евгений Попов). Например, такого:
Мимо острова Буяна,
мимо сада Монплезир
едет девушка Татьяна,
бывший красный командир.
Едет и размышляет:
«И куда я этак шибко
в белом венчике из роз?..»
Цитаты из Пушкина и Блока — как дорожные знаки, размещенные на колхозном тракте советской (антисоветской) смеховой культуры. «Наклонительное повеление» — так называется другое стихотворение. Этакие прогулки на руках, этакая постмодернистская акробатика-аэробика. Все вертится, и кружится, и несется кувырком — в сторону от всякого ПМ, мимо концептуализма, к большей свободе — к воле.
Александр Левин, превозмогая свою склонность к игре (с гитарным аккомпанементом — бардовская все-таки выучка), выходит на просторы какой-то новой лироэпичности. Когда игра важнее жизни, но жизнь — дороже текста.
Думаю, всего сказанного достаточно.
И для читателя, и для психоаналитика.
«Я раскрыл заговор слов. Нам только кажется, что мы владеем словами по какому-то не нами установленному закону, как движениями своей руки, как мыслями, как воздухом, как дыханием. А на самом деле все наоборот. Ведь на самом деле дыхание владеет нами, а не мы им. Так и со словами. Мы — лишь форма существования слов», — сказано в романе Михаила Шишкина «Взятие Измаила», который печатается в той же книжке «Знамени».
На самом деле заговор раскрыл Александр Левин. Раскрыл и превратил его в текст.
Александр КАСЫМОВ.Уфа.
Марианна Вехова. Бумажные маки
Повесть о детстве. М., «Путь», 1999, 144 стр., с илл
Книга Марианны Веховой имеет подзаголовок: «Повесть о детстве». Но сразу же вводится еще одна тема: «Посвящается памяти моих безвременно умерших родителей: двадцатитрехлетней маме, погибшей в ссылке, и тридцатилетнему отцу, пропавшему без вести в народном ополчении под Ржевом».
Вся вторая часть книги — попытка ребенка, подростка, а затем и взрослого понять самоубийство матери и решимость отца, которого любая медицинская комиссия не признала бы годным к военной службе, идти в ополчение, на верную смерть. Этот поиск перерастает в открытие третьей темы: о глубинном смысле страдания. Третьей темы я совсем не почувствовал в журнальном варианте. Он меня захватил когда-то, временами сердце сжималось от жалости, но я не подозревал в авторе мыслителя. Слишком многое было, видимо, сокращено. Оставались больные девочки, мастерившие лежа на спине искусственные цветы, чтобы в день победы положить их к портрету Сталина. Только несколько лет спустя, выйдя из санатория, одна из этих девочек начинает понимать, почему бабушка Женя, взявшая ее к себе, живет в глухом углу Коми АССР, а не в Москве, почему погибла ее мать, Тамара Гербст, виновная только в своей немецкой фамилии, и почему отец предпочел погибнуть, а не упомянуть о своей близорукости в восемь диоптрий.
В журнальном варианте («Континент», № 90) во всем виноват «век-волкодав». Но в книге автор идет дальше, глубже.
«Я ведь была тем страдающим безвинно ребенком, одиноким в мире страха, крови, войны, ребенком, о котором можно было вопросить: каков смысл этой боли, одиночества, надвигающейся инвалидности — безысходного горя до конца дней?» Надо ли забыть свои страдания, словно их не было, освободиться от груза воспоминаний — или человек обязан их помнить, вдумываться в них, искать в них смысл? В своих личных страданиях и в страданиях страны? Зачем нужны они, все эти страдания?
«Когда я была больным ребенком, одиноким среди чужих, когда кричала от боли, грызла руки, мучилась в лихорадке, погружалась в страхи, — я жила этим — болью, жаром, страхом, была внутри страдания. А только отпускало, я, усталая, спала… Это взрослым было тяжело на меня смотреть извне… Сейчас, сама взрослая, я понимаю в полной мере, каково это — видеть муки ребенка. Но ведь и боль одинокого старика, обманутой девушки, избитой мужем женщины, юноши, попавшего в руки садистов, ужас и отчаяние ракового больного, умирающего в пустой квартире, — разве они меньше тех моих детских мук? Кто их может взвесить и сравнить?
Возможно ли — жалеть одного больше, чем другого?..
Очищает ли страдание? Я видела и по себе знаю — подавляет, искажает, уродует. Может быть, очищает сопротивление этим искажениям? Может быть, возвышает победа над своей слабостью?
Тогда мне нельзя отсекать себя теперешнюю от прошлой, зачеркивать мои победы, такие тяжелые, давшиеся такой большой ценой, и отворачиваться от поражений, которые мне так много помогли понять…»
Вехова пристально вглядывается в свои маленькие детские победы и поражения, в свои порывы к радости жизни сквозь будничное, привычное страдание и в свои завихрения злорадства, мучительства.
Драгоценным опытом становится и радость, сменившая боль, и вопли, которыми больной ребенок мстит взрослым за то, что они здоровы, или — едва выучившись читать — декламирует наизусть сказки Пушкина как раз во время мертвого часа, назло всем. И первое прикосновение к молитве:
«В гипсе спина болела меньше, чем на полу в избе, до больницы, я уже не кричала от приступов, спина просто ныла то сильнее, то тише, я плакала, когда менялась погода, и боль, как ночная мышь, начинала меня точить.