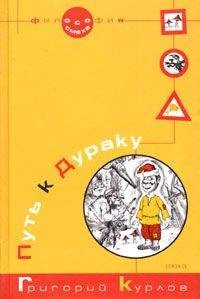Ирэн Роздобудько - Лицей послушных жен (сборник)
Вот если бы я могла так же свободно и непринужденно поболтать хоть с кем-нибудь, посоветоваться, рассказать о своих сомнениях!
– О чем ты читаешь? – спросила я Лил.
Она оторвала глаза от страницы.
– Готовлюсь на завтра, – сказала она.
– А что будет завтра?
– Консервирование. В этом году много яблок и вишен…
– А-а-а… – сказала я.
Лил снова уткнула нос в книгу.
– Лил… – опять позвала я, и она недовольно посмотрела на меня. – Ты когда-нибудь хотела выйти за забор?
– Всему свое время, – повторила она слова госпожи Директрисы, которые мы не раз слышали на общих собраниях.
Я кивнула. Но не успокоилась.
– Лил, – снова позвала я ее, – а ты не боишься?
– Чего? – не поняла она.
– Ну… что там, – я кивнула за окно, – все будет не так, как мы себе представляем.
– Послушай, Пат, с меня хватит! – рассердилась Лил. – Ни о чем таком я больше думать не хочу. И не буду. И тебе не советую.
Да, точно, она еще злилась на нас.
Лил сидела передо мной как стена, биться в которую не было никакого смысла.
– Лил, – опять позвала я. – Что такое колибри?
– Это такая маленькая птичка, – не отрывая взгляда от книги, сказала Лил, – она живет в цветах и питается нектаром.
Я все знала и сама, но мне очень захотелось произнести это слово…
– Лил!
Она нервно отбросила книгу:
– Ну что? Что? Что ты от меня хочешь?!
Ого! Хорошо, что это проявление эмоций никто не видел, кроме меня.
– Лил, – сказала я, – ты ведь тоже думаешь об этом…
– О чем? – буркнула она.
– О том, что будет с нами ЗА забором. Об этом думают все. Но молчат… Разве это не ложь?
– Ты и вправду больна, Пат, – сказала Лил и положила руку мне на лоб. – У тебя температура.
Я сбросила ее руку.
– Лил, а то, что мы смотрели на балы и никому об этом не рассказывали, разве это не преступление? А сны, Лил? Разве тебе всегда снятся кареты?
Она смотрела на меня с тревогой.
– Ты бредишь, Пат? Я позову Воспитательницу.
– Позови, – сказала я, – и я расскажу ей о дневнике Тур… О том, что мы подглядывали за балами.
– Ты… Ты… – Она прямо задохнулась от гнева и не могла произнести ни слова.
– Мы очистимся, Лил. Мы все очистимся. Мы должны это сделать.
Лил насупилась.
– Может быть, вам ничего и не будет за это, – наконец тихо сказала она. – Тебе, Рив, Озу и, конечно же, Ите и Мии. А вот я не хочу возвращаться туда, откуда пришла.
Я была удивлена.
– А разве ты знаешь, откуда пришла?!
Я увидела, как она стушевалась, а затем, взяв себя в руки, сказала:
– Наверняка – нет. Но знаю, что не жила так, как вы.
Она насупилась.
Видимо, я задела ее за что-то живое.
А она тихо добавила:
– Я мало что помню, но что такое быть голодной – знаю. Здесь меня кормят, обувают и одевают. Ты же знаешь – я «льготница», меня сюда взяли из милости начальства. Я хочу выйти замуж. И быть счастливой. Как все.
– Как Тур? – спросила я.
– Даже как Тур… – тихо сказала Лил и добавила: – Не будем больше об этом, Пат. Хорошо?
Мы снова погрузились в свое чтение. Я – про Катину любовь, она – про консервирование. И больше не разговаривали.
Но я поняла, что не одинока в своих опасных раздумьях. Однако поделиться еще более опасными мыслями не могла. Боялась подвести Лил!
Закрыла глаза и сделала вид, что сплю. Но сквозь прикрытые веки я снова ощущала на себе ее взгляд.
Услышала, как она подняла с пола мои старые тапки, покрутила их в своих руках, сковырнула с подошвы кусок сырой земли, растерла его в пальцах, даже понюхала и поставила тапки на место…
Днем ко мне пришли посетители – девочки из младших классов.
Слушать их веселые голоса, которыми они спели несколько песен, было нестерпимо. Госпожа Воспитательница дирижировала этим самодеятельным хором, девочки вытягивали шеи, усердно открывали рты, стараясь петь в унисон.
Во время пения они с любопытством разглядывали меня.
Мы точно так же ходили навещать своих старших соучениц, когда те болели, зимой приносили мед, летом – цветы. Это называлось «дар благотворительности».
«Интересно, – подумалось мне, – протопчет ли кто-то из них дорожку на крышу бального зала, как это сделала я?..»
До девяти часов вечера со мной оставалась Рив. В отличие от Лил, она бойко пересказывала события, происходившие за стенами лазарета, – кто что сказал, кто сколько ягод насобирал, кто во что был одет и тому подобное. Я делала вид, что слушаю. Кивала. Растягивала губы в улыбке. Почему-то ее речь и построение предложений показались мне искусственными.
Странно, что я раньше этого не замечала.
В этой же второй половине дня, начиная часов с шести, на меня напала такая дрожь, что я вынуждена была накрыться толстым одеялом, ведь с каждым часом больничная кровать превращалась во все более горячую сковороду, на которой меня поджаривали живьем.
С утра я точно знала: ни за что больше не переступлю порог, а точнее, подоконник лазарета. Днем начала колебаться, а вечером колебание переросло в дрожь, смысл которой я не могла понять.
Последней ко мне зашла госпожа Воспитательница. Еще раз принесла чай и сухари, от которых меня уже тошнило, измерила температуру, потрогала лоб. Сказала, что у меня ужасный вид и завтра она должна будет вызвать врача из города.
Потом она пожелала мне спокойной ночи и ушла, закрыв дверь на ключ…
Глава шестая
Ланц
Иногда, чтобы продолжать жить, нужно найти точку отсчета.
Ту новую и неожиданную эмоцию, от которой в тебе снова родится что-то важное и значительное – то, из-за чего ты в очередной раз вздрогнешь и захочешь идти дальше.
Эта точка может быть незначительной, не революционной для всего человечества – она только твоя. А весь твой эгоизм по отношению к ней состоит в том, что, взбодрившись, ты потом не можешь вспомнить, с чего все началось.
Ведь эта точка отсчета может быть еле слышной из соседнего окна мелодией, запахом или обычной репродукцией в книге. Ты касаешься ее взглядом или слухом, и она пробуждает гребень волны, которая застоялась в тебе, как в мутном озере. Волна поднимается и выносит тебя на новый берег.
После того как я увидел вспоротое накрест брюхо Минни, долго не мог найти никакой точки. Просто не знал, на что смотреть, что слушать. Какая музыка, какое полотно или случайное лицо в толпе вернет мне жизненные ориентиры, вытолкнет на новый виток дороги. И произойдет ли это вообще?
Не могу сказать, что я не искал эту точку отсчета.
Я открывал наугад страницы любимых книг, включал диски с музыкой или фильмами, нюхал свежемолотый кофе, касался клапанов саксофона. Одним словом, делал все, что раньше будоражило мое воображение и отбрасывало мысли о бессмысленности жизни далеко назад. Но точка нашлась в неожиданном месте, – проще говоря, на моем же теле, чуть выше желудка…
…Утром, сидя на балконе, я пытался упорядочить свои мысли при помощи «Внутренней стороны ветра» Милорада Павича. Я блуждал взглядом по тому, что знал почти наизусть: «Он был половиной чего-то. Сильной, красивой и даровитой половиной чего-то, что, возможно, было еще сильнее, крупнее и красивее его. Итак, он был волшебной половиной чего-то величественного и непостижимого…»
«Обидно быть половиной чего-то», – подумал я. Подумал так, будто прочитанное касалось собственно меня, а не героя книги. Но если я подумал именно так, то, наверное, так оно и было! Я вздрогнул. Действительно, я вздрогнул, ясно ощутив себя обломком.
Но обломком от чего или чего? Ох! Выстрел Павича попал в самое сердце.
«Счастливы те, кто никогда ничего не узнает о себе – через ядовитые тексты, краски и мелодии», – подумал я.
Обломком чего я мог бы быть?
А обломком чего был, к примеру, Барс? Или Феликс, или Петрович?
Насчет Феликса я сразу решил, что он был обломком унитаза. Это очень шло ему – белый и блестящий на все тридцать два зуба, – он и понятия не имел, что был всего лишь обломком унитаза. Возможно, импортного, но все равно унитаза! Я вслух рассмеялся. Чего, кстати, давно не делал в одиночестве.
Барс… Здесь все просто: он был идеальным обломком. Просто обломком – и все. Он искал то, к чему бы мог прилепиться, не заботясь об эстетичности внешней формы предмета, к которому прилепится. Но если прилепится – уж будьте уверены! – будет считать себя лучшей половиной.
Петрович. Он был обломком музыки – вырванной страницей из партитуры какого-нибудь великого композитора. Не всей партитурой, конечно, а тем листом, где расписана партия литавр и совсем немного, в конце, вступление виолончели…
Я по очереди начал вспоминать своих знакомых и друзей, удивляясь тому, как четко расставляю их по местам, от которых они отломились. Я хохотал над остроумием своих наблюдений.
Среди них были потерянные части бытовой техники – от машин до утюгов, оторванные куски от полотен художника Васи Пупкина, фрагменты рук Венеры Милосской и даже мизерные закорючки от золотых колец! Некоторые из моих знакомых были обломками бигудей, мобильных телефонов, бус или кирпичиками нью-йоркских небоскребов…