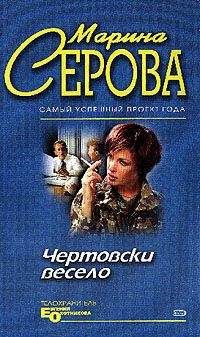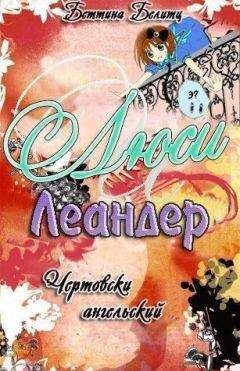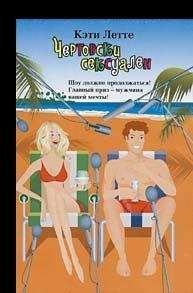Инна Александрова - Свинг
Родители красивы, только очень худы. Особенно красива мама. На нее заглядываются мужчины, и мне очень хочется быть на нее похожей, но я — вылитый отец. Так говорят все. У меня русые, как у отца, волосы, забранные в две толстые косички, и серо-голубые глаза. Девица я вроде бы не уродина, но все равно хочу быть похожей на маму, у которой, как все говорят, точеный профиль, густые вьющиеся темные волосы и тоже серо-голубые глаза. Она похожа на «дяденьку» Христа. Икону видела в церкви.
Мама хромает. У нее врожденный вывих тазобедренного сустава. В тринадцатом году — маме было пять лет — бабушка Мэра-Ита повезла ее из Орши, где они жили, в Питер к врачам. Так случилось, что попали в руки лейб-хирурга Его Величества профессора Вредена, который оперировал маму, но неудачно. Осталась хромоножкой. Но тогда еще не ходила с палочкой. Палочку взяла перед самой войной. Из-за хромоты не состоялась певческая карьера — она очень хорошо пела. Как-то темной оршанской ночью ее пение услышал заезжий артист и предложил помощь в устройстве. Но увидав, что мама хромая, смолк.
Родителям приходится брать ко мне нянек: не работать мама не может — потеряет профессию и просто не прожить, а бабушек-дедушек нет. Папины родители давно разошлись, его мать умерла от рожистого воспаления в двадцать пятом. Где отец — не знаем: из Уфы уехал в Варшаву и переписки нет никакой. Отец мамы умер давно, а Мэра-Ита больна и живет теперь не в Орше, а в Рогачеве у каких-то дальних родственников. В двадцать восьмом, когда мама вышла замуж, приезжала, но не захотела жить с зятем — гоем, то есть русским.
Няньки мои меняются как перчатки. Дольше всех живет Устя — толстая деревенская женщина, очень добрая и набожная. Она водит меня в Воскресенскую церковь, и мы долго стоим с ней на службе. Стоим обе на коленочках, а когда дяденька-священник собирает на поднос деньги, Устя дает и мне денежку, чтобы я со словами «на храм» сделала взнос. Но Устю вдруг срочно вытребывают назад, в деревню, и мы со слезами ее провожаем.
Без няньки нельзя ни дня, а потому родители срочно берут деревенскую девочку Нюру. Нюра худа, белобрыса, прыщевата, с тонкой косицей. Она плохо обходится со мной — иногда дает подзатыльник. Живет у нас недолго: однажды отец, вернувшись домой пораньше, застает в комнате страшную вонь. Нюра сходила в ведро, стоящее под рукомойником, и не вынесла. Мой горшок тоже грязный.
Третья нянька Лизон, или Елизавета Евстафьевна, женщина городская. Вначале все ничего. Она живет недалеко и ночевать уходит к себе, но потом начинает вместе со мной посещать собрания баптистов. Баптистка. Мы с ней идем в Богоявленскую церковь, что на Проломной. Там перед собраниями — у баптистов собрания — на примусе варят картошку и всем присутствующим раздают по две штуки. Обо всем этом я взахлеб рассказываю вечером родителям, и они решают, что баптистку из меня делать не стоит. Ну а тут поспевает очередь в садик, и жизнь как-то упорядочивается.
Пассаж населяет самый разнообразный люд. Мы дружим с семейством Ирочки, которое живет в коридоре «за углом». У Ирочки есть бабушка, поэтому проблем с няньками нет. Ирочка очень славная, и мы играем с ней и никогда не ссоримся. Есть еще приятель Гога, что живет в большой комнате напротив. У него — и бабушка, и дедушка, и мама. У них на столе всегда горячий самовар и сушки с пряниками. Иногда угощают. Они из «бывших», как говорит мама, а их дочь Мотя — Гогина мать — возьми да и выйди за цыгана. Так что Гога — цыганский сын, трудновоспитуемый. Он чуть старше меня и все время норовит куда-нибудь удрать. В свои побеги увлекает меня, за что мне здорово достается.
Еще одна комната, куда хожу, вообще очень красивая и, как говорит мама, с венецианскими окнами. В ней живут Людмила Павловна и Алексей Иванович. Алексея Ивановича дома почти не бывает. Он бывший белый офицер, а теперь тапер в кинотеатрах. Людмила Павловна всегда «сидит в креслах», в капоте. Капоты красивые. У мамы таких отродясь не было. Пара бездетна, а потому привязались ко мне, особенно Людмила Павловна: все время подкармливает мармеладом и печеньем. Я ничего — ем. Вообще девица я не толстая, но, в отличие от родителей, вполне упитанная, потому как для меня продукты покупаются в Торгсине: папина старшая сестра тетка Софья прислала несколько золотых вещичек, оставшихся от бабушки. Теперь их сдают в Торгсин, чтобы купить манку и сгущенное молоко.
Мама родом из Белоруссии, из Орши. В Казань приехала учиться медицине: еще совсем ребенком под столом «лечила» кукол, сшитых из тряпок. Семья была страшно бедной. Дед Яков-Израиль — профессиональный революционер, эсер, сапожник и флейтист. Он — идейный революционер. Занимался распространением прокламаций. Прятал их в маминой колыбельке. Когда приходили с обыском жандармы, к кроватке ребенка не прикасались. Из-за постоянных мотаний по революционным делам простыл, заболел туберкулезом и в тридцать три года отдал Богу душу, оставив двадцативосьмилетнюю вдову с пятью девчонками, старшей из которых было семь, младшей маме годик. Маму дед назвал по-русски — Евгенией — в честь погибшего друга, тоже революционера.
Семью подымала бабушка Мэра-Ита: день и ночь спина ее была согнута в шитье. Портнихой была первоклассной: шила и верхнее, то есть пальто, и платья. Обшивала оршанских модниц. Тем и заработала астму. За шитьем иногда пела. Голос был хороший. Мэра-Ита пела не только грустные еврейские песни, но и «Варшавянку». Мама в нее пошла. И я, подлая, будучи уже большой, часто «приказывала»: пой! Мама пела:
Пара гнедых, запряженных с зарею,
Тощих, голодных и грустных на вид,
Вечно бредете вы мелкой рысцою,
Вечно куда-то ваш кучер спешит.
А то и более веселое:
Мы кузнецы, и дух наш молод,
Куем мы к счастию ключи!
Вздымайся выше, тяжкий молот,
В стальную грудь сильней стучи.
У мамы могла быть совсем другая судьба, если бы Мэра-Ита ее отдала. Отдала бездетной генеральской паре, которую встретила в Питере, куда привозила Женю на операцию. Когда в девятьсот тринадцатом вышла на питерский перрон, поняла, что в городе еврейский черносотенный погром. Попросила помощи у русского рабочего. Тот откликнулся. Повел к себе домой, потом пристроил портнихой к одному генералу. Генерал с женой и ходили к Жене в больницу, когда та год лежала в гипсовой кроватке. Бабушка уехала в Оршу: там тоже оставались малые дети. Генерал с генеральшей носили необыкновенные подарки и сладости, стараясь приручить Женю. Только не отдала Мэра-Ита ребенка, сказав: «Как все, так и она…»
Если бы не хромота, мама могла бы стать певицей, артисткой, но не судьба. Зато замечательный врач из нее получился. И все — благодаря революции: черта с два девчонка из бедной еврейской семьи смогла бы поступить в Казанский университет.
А папа не из бедненьких, хотя и не из богатых. Дед со стороны отца был весовым мастером. Весы большие чинил на всей Самаро-Златоустской железной дороге. Подряд держал, имел рабочих. Происходил из варшавских мещан, поляков. Приехал в Уфу на заработки. Поляки тогда ехали осваивать сибирские земли, а Уфа считалась Сибирью. С молодой женой и дочкой дед жил вначале в землянке, но очень скоро построил один дом, потом второй, насадил два сада. Бабушка Паулина была православной и, конечно же, не работала, детей растила. Отец, как и мама, младший в семье.
Пришла революция, и семья распалась. Дед не захотел примириться с новой властью, уехал на Запад, в Варшаву. А бабушка связалась с баптистами, они ее зимой в проруби крестили. Заболела рожей. От рожи и умерла. Папа остался со старшей сестрой, которая к тому времени и замужем побывала, и разошлась. Учительствовала. Кстати, была антисемиткой. Маму в штыки приняла.
У папы был прирожденный математический ум. Окончил Уфимский пединститут, но его тянуло в науку, в неизведанное. Вот и подался в Казанский университет на химфак. Приняли сразу на третий курс. Жил на квартире у хозяев, которые на Пасху заставили его впервые выпить водки. Проснулся в непотребном виде. С тех пор дал зарок: никогда не брать в рот спиртного. Ничего, кроме сладкой наливочки собственного приготовления, не пил. В двадцать восьмом они с мамой встретились на одном из студенческих вечеров. Мама пела. Отец влюбился и любил всю жизнь: мама ведь еще и умницей была.
Окончив университет, отец остался на кафедре органической химии. Эта наука, изучающая превращения веществ, сопровождающиеся изменением их состава и строения, сразу захватила отца. Днями, а иногда и поздними вечерами просиживал в лаборатории. Органическая химия, занимающаяся структурой белков, нуклеиновых кислот и других сложных соединений, начала бурно развиваться и у нас в стране. Для отца это было увлекательно и перспективно, ему прочили научную карьеру.
В университете в то время на химическом факультете работал папин однофамилец — Энгельгардт Владимир Александрович, ставший впоследствии знаменитым академиком, основоположником молекулярной биологии. Он был лет на восемь старше отца, но уже доктор наук, профессор. По работе они не контактировали, но однажды Владимир Александрович стал выяснять у отца, не родственники ли. Оказалось, нет. Владимир Александрович принадлежал к немецкой ветви Энгельгардтов, папа — к польской.