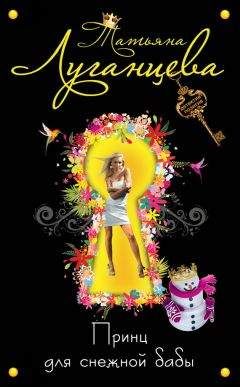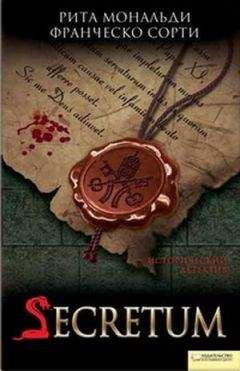Ада Самарка - Игры без чести
Людмила как раз была на больничном, в приятном состоянии почти полного выздоровления после мелкой простуды и зудящей ленцы, когда сидение дома начинает поднадоедать, но выходить на работу раньше отпущенного законом времени, грешным делом, совсем не хочется. Она сидела на любимом диване между кухней и гостиной, замотав ноги белым пледом, листая восхитительно красивые французские журналы по дизайну интерьеров и периодически протягивая руку к низкому столику, где стоял элегантный поднос с тирамису и коробка с бумажными салфетками.
— Как? В Одессу, что, там какое-то мероприятие? Довольно заманчивое предложение.
— Нет, не мероприятие, только ты и я, — сказал Слава, откидываясь на спинку сиденья и закрывая глаза, узнав ее хрипловатый урчащий голос.
— На сколько?
— На день, сейчас туда, ночь там, завтра вечером обратно, на моей машине.
Закрыв глаза и потянувшись всем телом, она проурчала:
— Звучит прекрасно, загадочный вы человек, Вячеслав… простите, не помню, как вас по отчеству…
Буквально через сорок минут Люда вышла на стоянку у дома, с удивленной улыбкой оглядывая стоящие вокруг машины, — в джинсах, кроссовках, в простой серой спортивной куртке, с рюкзаком на плече, почти без макияжа. Слава моргнул ей дальним светом, и, улыбнувшись еще шире, не спеша, уверенно, она пошла к нему, скользнув взглядом по номерам на машине, села на переднее сиденье, положила рюкзак назад, чуть жмурясь, пристегнулась и посмотрела прямо перед собой, готовая к путешествию. Говорили мало и о каких-то мелочах, в основном слушали музыку. Трасса успокаивала, даже несмотря на шум и скорость, через воздухозаборники в салон просачивалась загородная весенняя свежесть — какая-то ароматная смесь мускусной земляной сырости, апрельской сладковатой прели, когда ночью уже стабильно пятнадцать градусов и очень влажно.
А Вадик вытащил Любушку на прогулку в любимые ими со Славой «зеленые легкие нашего города» — дебри вокруг Парковой аллеи. Было влажно, немного пасмурно, но очень тепло, и пахло примерно так же тревожно и сладко, как прошлой ночью пахло на двестипятидесятом километре одесской трассы.
— Я не понимаю, что я делаю не так, все-таки я дура, дура, огромная, вселенская дура… — говорила Любушка, горбясь и глядя себе под ноги. — Вот сейчас весна, такой период чудесный, и все время я чего-то жду, оно вот тут вот, прямо щекочет мне ноздри, это ощущение, что вот-вот настанут какие-то чудесные перемены, я всю жизнь жду какую-то манну небесную. И получается, что жертвую всеми этими веснами, летами… смотрю мимо и думаю: ну вот, скоро мой час придет, скоро и я заживу.
Вадик попытался положить ладонь на ее руку, сжимающую ручку коляски, но Любушка как-то инстинктивно, словно это было насекомое, смахнула его, продолжая говорить, все так же глядя вниз:
— Больше всего на свете я люблю знаешь что? Вот для счастья мне так мало надо… и никакие не деньги, нет, я начинаю понимать это, потому что все-таки в Павле ценю совсем не это, я же говорила, меня все, по большому счету, устраивает, а больше всего на свете я люблю вечер летом. Вечер такой, за городом можно, хотя и на балконе так бывает, знаешь, вот ты сам замечал, что летом, ближе к осени, небо такое делается голубое, но в то же время чуть золотистое и прохладное, вот это вот для меня ощущение полнейшего счастья, когда солнце только что село, и еще если бы море было. Я же на море была только в пятнадцать лет, с родителями ездила в Крым, и я вот ходила там, денег, конечно, было мало, мне так вообще не давали, но я ходила там, предвкушала непонятно что, как бы не часть этого всего, понимаешь, словно из-за стены смотрела и думала: ну, еще пару годочков, и я-то заживу, и это все будет моим! А ведь нужно было-то так мало, просто чтобы с кем-то ходить за руку, вдвоем, предвкушая вечер, за которым будет ночь, полная любви и нежности, есть чебурек на пляже, хочешь — пойти на дискотеку, хочешь — за ручки держаться и ходить по ночной набережной. Вот оно все там для меня за заборами играло, огнями пестрилось, а вокруг вечер, тени ложатся, и такое впечатление, что в такие вечера жизнь только начинается, и вот в этом вечере знаешь что самое ценное? А что скоро будет ночь, жаркая, страстная, и ведь это так просто — вдвоем, ведь так мало надо, на каком-то балконе, в курятнике, где там селят дешевле всего… на открытом воздухе заниматься любовью. Знаешь, я говорю об этом, и у меня такое чувство, что это все было у меня, будто это мои реальные воспоминания, которые моя бестолковая жизнь у меня украла, я ума не приложу, что делаю не так.
— Как ты думаешь, ты была бы там счастлива со Славой?
— Ой, не говори мне о нем… это просто главный столп моей дурости в последнее время, — смущенно и раздраженно улыбаясь, она приложила руку ко лбу, как бы закрываясь. — Какое-то капитальное недоразумение. Я же не верю ему, я панически боюсь красивых и богатых мужчин.
— Почему не веришь? Думаешь, тебя не предаст только такой, который слабее тебя, которого ты сама в два счета победишь, если что? Спасешь, как спасаешь Павлега, оберегая и взращивая его богатый внутренний мир?
— Ну… Павел — это вообще отдельный разговор. Наша беда в обстоятельствах — в иных обстоятельствах мы были бы идеальной парой. Сейчас очень мало таких образованных, глубоких людей.
— То есть ты считаешь, что Славка, например, не знает, кто такая Мария-Терезия или… что произошло 30 января 1889 года в Майерлинге, кстати, он там был, или… или кто такие русины, и какой процент украинцев, живущих за пределами страны, записались русинами, а не украинцами, когда это стало возможно, ведь именно из-за русинов, кажется, накрылась Павликова диссертация?
— Нет-нет, Слава очень образованный человек, просто он… совершенно не мой, ну Вадик, ну, я ужасно комплексую, когда попадаю во все эти машины, ты же знаешь, что надето на нем и что на мне, с какими людьми он общается, я не могу допустить и тени флирта между нами, это просто другие стандарты…
— Так зачем же ты тогда ломанулась в Тамбов?
— Не знаю.
Какое-то время они шли молча.
— Я на самом деле очень одинок, Люба, и чем больше слушаю тебя, тем больше узнаю в тебе что-то свое собственное. Знаешь, я никогда никого по-настоящему не любил, мне уже тридцать, и как-то уже начинаешь задумываться о женщине на всю жизнь, чтобы ты не сомневалась, жену я буду выбирать такую, чтобы на всю жизнь.
— Это здорово, Вадик.
Спустя какое-то время они вышли на замусоренную прошлогодней листвой площадку с полукруглыми деревянными скамейками без спинок, сильно заросшую, кусты готовились вот-вот поглотить ее. Много-много лет назад тут провожали Славку в армию, смеялись, курили, пили какую-то гадость.
— Садись, — сказал Вадик.
Алина как раз задремала, можно было спокойно передохнуть. Любушка достала из продуктовой сетки пакетики сока и остывшие бутерброды из «Мистера снека», предусмотрительно купленные Вадиком на Майдане по дороге сюда.
— Это так удивительно, Вадик, но ты мой очень близкий друг, знаешь, вот иногда мне даже жаль, что у нас ничего не получится.
— Почему?
— Потому что это моя жизнь такая, знаешь, я ведь никогда не смогу изменить мужу.
— А в Тамбове?
— Я же ехала туда совсем не за этим. И ты, у тебя обязательно все сложится, потому что иначе не бывает.
— Но он же причинил тебе столько боли, взять хотя бы аборт, как ты вообще можешь жить с ним после такого, ты веришь в обстоятельства, что могло бы быть все иначе, оставив постоянными все те же две единицы — тебя и его?
— Я вообще думаю, что, по большому счету, все люди одинаковы и что с кем угодно мне было бы еще хуже, чем с Павлом, пусть бы на его месте был тот, кто зарабатывал бы лучше, ну и что, без того духовного мира, эмоционального, я не была бы счастлива. А сколько мужей пьет, матерится, бьет своих жен… а скольким нужна просто красивая оболочка, у которых внутри пусто вообще, вакуум сплошной, поговорить не о чем.
— Господи, несчастье же ты какое, почему же ты равняешься на тех, у кого еще хуже, а? Обратно ехали на такси, и Любушка обиженно сказала, что это лишние траты, и лучше бы уж он эти деньги просто так отдал ей. Поднимаясь по лестнице — наконец-то сытая огромными «мистерснековскими» бутербродами, — Любушка испытывала особенно острые, раскатистые чувства любви к Павлу, да еще и приправленные угрызениями совести, все еще будто ощущая рядом не совсем удобное присутствие Вадика, ластилась к нему, обвивая, целуя в тонкую жилистую шею, массируя плечи.
По дороге из Одессы Славка около часа проговорил с Вадиком. При всей его неспособности вести телефонные разговоры более пяти минут, трасса была единственным местом, где он мог болтать, и особенно с Вадиком. Людмила — словно большая сытая кошка — сидела рядом, чуть щурясь, чуть улыбаясь, глядя перед собой на дорогу. Тихо играла музыка: как раз чтобы не отвлекать его — от разговора, а ее — на слушанье этого разговора.