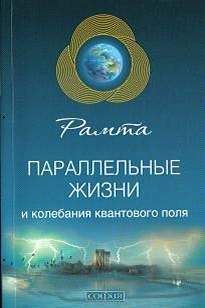Ганс Носсак - Избранное
Из сказанного явствует, в какое затруднительное положение попал господин Глачке. При малейшей бестактности с его стороны возникала опасность, что падкая на сенсации пресса заговорит о полицейских злоупотреблениях. Можно было даже предположить демонстрации протеста со стороны юных поклонников артиста. Не удивительно, что господин Глачке заранее чувствовал себя связанным по рукам и ногам, и это, во всяком случае, извиняет его раздражительность. Вдобавок д'Артез, как артист, владел не только каждым своим жестом, но и лицом, придавая ему по желанию любое выражение. Правильнее было бы сказать, лишая его всякого выражения, ибо этим как раз объясняется эффект, который он производил. Глядя на исполняемые им сценки, зритель никогда не знал, смеяться ему надлежит или содрогаться от ужаса, и, только когда в зале вспыхивал нервный смешок, он смеялся вместе с остальными. В рецензии на одну из пантомим д'Артеза говорилось, что зритель невольно задается вопросом, какое же лицо делает д'Артез поутру, вставая, или ночью, ложась в постель. А что же, несколько высокопарно вопрошал критик, выражает это лицо, когда его обладатель оказывается наедине с женщиной, возбуждающей его желание?
Нескромный вопрос журналиста был не столь уж неуместен. По рассказам Ламбера, д'Артез, приехав во Франкфурт по случаю кончины матери, спросил его:
— Какое нужно сделать лицо, стоя у гроба матери?
В записи или прочтении это звучит цинично, но у друзей вошло в обыкновение вполне серьезно обсуждать подобные вопросы.
— И это спрашиваешь ты? — возразил Ламбер.
— Когда вокруг стоят люди, это не шутка. А вот когда остаешься с мертвецом один на один, что тогда?
Как разыграл он эту сцену в действительности, можно сообщить уже сейчас. Д'Артез описал ее потом своему другу.
— Так вот, встретила меня экономка, ветхая старушонка в парике, но бойкая на язык. Даже мать побаивалась ее, а это что-нибудь да значит. Так вот, госпожа Шорн изобразила, как и подобает, на лице огорчение и сочувствие и повела меня в гостиную, где установлен был гроб. Конечно же, там стоял запах цветов и венков. Не забыты были и пальмы, и канделябры со свечами — словом, за расходами не постояли. Разумеется, госпожа Шорн оставила меня одного. Сам понимаешь, дабы сын сказал матери последнее прости. Все это она разыграла безупречно, с большим тактом. Но тут на стене, в просвете меж кадок с лаврами или что уж там было, я обнаружил небольшую картину, показавшуюся мне знакомой. Зачем оставили этот просвет? Случайно? Микрофона за картиной я не нашел, видимо, его сочли ненужным. Осторожности ради я это проверил, чтобы избежать возможных неприятностей. Картина была мне знакома еще по Дрездену, но я никогда о ней не вспоминал. Она и там висела в гостиной. Когда у нас бывали гости, я, в то время еще ребенок, умирал со скуки и от нечего делать ее разглядывал. Небольшое полотно, морской пейзаж. Темный силуэт трехмачтового судна на фоне кораллово-желтого вечернего неба. Мирный пейзаж, но чуть мрачноватый. Тяжелая золотая рама, в два, пожалуй, раза больше самой картины, а внизу медная дощечка, как в музее. Мельбю, датский художник прошлого века. Можешь при случае заглянуть в справочник у себя в библиотеке, если захочешь. Кажется, имя его Антон. Не исключено, что картина тем временем опять приобрела ценность. Во всяком случае, они притащили ее сюда из Дрездена. Для меня само собой разумелось, что она здесь висит и я могу разглядывать ее, как бывало ребенком. Но тут я услышал, что к дому подъехала машина и кто-то довольно бесцеремонно захлопнул дверцу. Этот кто-то, верно, очень спешил, поэтому я быстро отошел от картины. Ведь стоит кому-нибудь увидеть меня перед ней, и он непременно решит, что я придаю ей большое значение и хотел бы заполучить ее в наследство. В этих делах необходима сугубая осторожность. Конечно же, ценность картины тотчас несообразно подскочила бы. Поэтому я вышел в холл. Госпожа Шорн уже отворила входную дверь, в дом ворвалась моя сестрица Лотта и с воплем: «Ах, это ужасно!» бросилась мне в объятия. Сцена, поистине достойная восхищения, даже госпожа Шорн была ублаготворена. Жаль, не оказалось под рукой киноаппарата, такую сцену стоило бы отснять. Сестрица с пунцовыми пятнами на щеках и зареванными глазами. У меня плечо промокло до нитки. Она бессильно повисла в моих объятиях, и мне пришлось изрядно поднапрячься, чтобы ее удержать, она ведь дама весьма корпулентная, а голос у нее срывался от горя. Как ей это удавалось? Она приехала из Базеля и в пути провела часа четыре, если не все пять: муж ее, директор банка, водитель не из торопливых. Но нельзя же четыре, а то и пять часов кряду реветь, это же свыше сил человеческих. Да тут еще и за дорогой следить приходится, сестрица моя имеет обыкновение беспрестанно соваться к водителю с советами. Как же ей удалось точь-в-точь в нужную минуту, подъезжая к дому скорби, пустить слезу и разреветься? Чудеса, да и только! А вслед за ней по ступенькам из палисадника поднимался и господин директор швейцарского банка с двумя дорожными сумками. Он слегка запыхался, но в общем и целом вид являл степенный и надежный. А на лице, конечно же, глубочайшее соболезнование, как оно и положено.
Такова эта сцена в передаче Ламбера. Была и другая сцена, о которой протоколисту рассказала Эдит Наземан. Она самолично при ней присутствовала. Речь шла о встрече членов семьи с бадкёнигштейнским пастором, которому сообщались даты и характерные эпизоды из жизни усопшей, дабы он включил их в свою надгробную проповедь.
— Тетя Лотта была невозможна, — рассказывала Эдит Наземан. — То и дело ударялась в слезы, а как-то даже выскочила из комнаты с криком: «Нет, я этого не вынесу!» Муж кинулся за ней следом и заставил ее вернуться.
Надо думать, Эдит Наземан не слишком будет довольна, что ее замечание зафиксировано здесь в письменном виде. А потому протоколист считает долгом особо подчеркнуть, что Эдит не собиралась ни чернить своих родственников, с которыми ее едва ли связывали какие-либо отношения, ни сплетничать о них. Заговорила же она об этом эпизоде лишь потому, что протоколист ее спросил, и особенно потому, что ее удивил отец, который сидел там же, но, глядя на истерические взрывы сестры, и бровью не повел и даже как будто одобрял их. Дочери он только сказал:
— Актерской выучки нет, вот меры и не знает.
Затруднение господина Глачке заключалось, таким образом, в том, что перед ним сидел не какой-то подозрительный субъект, из которого ему, опытному следователю, надлежало выудить побольше сведений, а широкоизвестный образованный человек, в чьей жизни ничего не изменишь и ничего сомнительного не раскопаешь. Дело еще усложнялось в высшей степени туманным прошлым д'Артеза. Для поколения, к которому он принадлежал, это не было чем-то исключительным уже из-за тех исторических событий, какие выпали на его долю; у д'Артеза, однако, все осложнялось тем, что он уже однажды вызывал подозрения, да, сразу после войны, что явствовало из документов. Причем не у немецкой стороны, а у американской тайной полиции в Берлине. Обстоятельство, побудившее ее в конце пятидесятых годов начать расследование и даже произвести обыск у д'Артеза, так и осталось неизвестным. Американские власти не уведомили о своих действиях соответствующие немецкие инстанции, как было принято, поскольку им зачастую требовалась поддержка немецких властей. Судя по этому, можно с уверенностью сказать, что подозрения не были связаны с Восточным Берлином или тому подобными актуальными в ту пору вопросами — в таком случае непременно поставили бы в известность немецкую службу безопасности. Дело, стало быть, касалось единственно американцев, и они держали его в тайне даже от властей дружественных стран. Впрочем, сам д'Артез во время обыска находился не в Берлине, а в Париже, где был занят на съемках для французского телевидения.
Тем не менее еще и теперь, по прошествии стольких лет, сохранялся доклад о результатах тогдашнего обыска, фотокопия его имелась и во франкфуртских инстанциях. Доклад был не слишком пространный и написан по-английски. Господин Глачке досконально его изучил и даже передал для прочтения протоколисту, а затем спросил:
— Что вы об этом думаете? Ничего не бросилось в глаза?
Естественно, что ко всякому, у кого однажды производился обыск, относятся с предубеждением, и если обыск не дал результатов, то скорее склонны объявить подозреваемого продувной бестией, чем поверить в его невиновность. В докладе и правда кое-что бросалось в глаза. Несмотря на канцелярский язык, каким принято составлять подобные документы, ощущалось, что квартира д'Артеза произвела на писавшего сильнейшее впечатление. Казалось, она невольно укрепила его подозрения; то же самое ощутил и господин Глачке, изучив документ.
Квартира д'Артеза находилась на Карлсруэрштрассе. Д'Артез снимал там и снимает по сию пору — две меблированные комнаты. Хозяйка квартиры, госпожа фон Коннсдорф, дама преклонного возраста, глубоко почитала своего долголетнего жильца, он, по-видимому, был для нее воплощением человека старого доброго времени. Не было случая, чтобы он не поинтересовался ее самочувствием и не посидел у нее вечером четверть часика, что стало чуть ли не ритуалом.