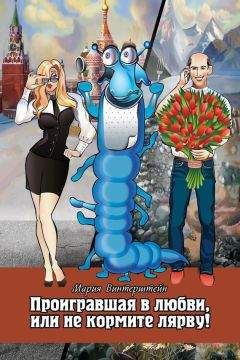Уильям Стайрон - Уйди во тьму
Он снова с надеждой склонился над ней.
— Вы не все утратили, лапочка. Я по-прежнему ваш, если вы хотите меня. У вас есть Пейтон. Она любит вас. Мы вместе напишем ей, скажем ей, что все теперь о’кей. Она может вернуться и в будущем году окончить школу, как и следует. Лапочка, если вы только осознаете, что люди любят вас, вы поймете, что впереди у вас многие годы — Господи! — с внучатами… — Погруженный в свою безнадежность, он на секунду увидел роскошную картину чадолюбия, где были дети, десятки детей, розовых игрунчиков на вечно зеленой траве. — Неужели вы не понимаете, Элен? Пейтон не ненавидит вас. Она самое понимающее дитя на свете. Мы с вами должны только довести до ее сознания, как обстоят дела, и тогда все будут счастливы. Элен, вы все, что есть у меня, а я — все, что есть у вас. Если вы мне поверите — да Господи, лучшие годы жизни у нас еще впереди. Говорю вам, Элен, мы сможем побороть страх и горе, и все остальное, если вы только поверите мне и полюбите меня опять. Лапочка, мы никогда не умрем…
Каким-то образом это сработало, его убеждения тронули ее, и сейчас — накануне свадьбы Пейтон — он поражался этому не меньше, чем тогда, год назад. Залив застыл, словно вода в чаше, и на его поверхности, будто соскобленное с луны, небрежно лежало серебро. Она была почти призрачной, эта тишина, и если бы Лофтис бросил через дамбу бутылку пива и она с громким всплеском разрезала бы воду, тишина была бы нарушена не менее внезапно, чем когда он наконец сумел достучаться до Элен. Он мог лишь до сих пор удивляться тому, что он сказал, какое магическое слово побудило ее подняться и, сбросив одеяла, подойти к нему с закрытыми глазами и все еще болезненно-бледными и серыми щеками, словно этакая легендарная, прелестная средневековая дама, поднятая всесильной магией из могилы, и обвить своими невесомыми руками его шею и пробормотать: «Ох, дорогой мой, вы, оказывается, так хорошо меня понимаете».
Нет, он никогда ее не понимал, но в этот момент не было и нужды в понимании: она снова принадлежала ему, они были вместе, иона ему верила. Такое было впечатление, словно он своим самоуничижением снял все беды с ее плеч, и потом, только когда жажда виски становилась невыносимой, он начинал, хмурясь, думать, что он попал в чертовскую ситуацию.
— Дорогая, — сказал он ей в тот день, — дорогая, дорогая, вы поняли, верно? Вы поняли, что мне нужно, верно? Вы поняли. Я верю. О да, будучи вместе, мы никогда не умрем!
А потом ему стало трудно каждый день сохранять хладнокровие, зная, что он добровольно и покорно позволил ей восторжествовать. Его гордость порой отчаянно бунтовала, но он подавлял ее, думая о том хорошем, что еще будет, — о жизни, прожитой трезво и честно, принимая, однако, участие в пристойных и полезных развлечениях — по-прежнему гольф и беседы с добрыми друзьями; приезд домой Пейтон — с трагическими думами и трагическими событиями, надежно оставленными позади, как это бывает в умах настоящих виргинских джентльменов. Он надавал Элен диких опрометчивых обещаний, и это была борьба, но он не считал, что она рассчитывает, будто он их сдержит. Он был осчастливлен, когда она однажды сказала: «Не глупите, дорогой, меня не трогает, если вы пьете, лишь бы вы соблюдали немножко осторожность. — И с легким смехом добавила: — Господи, Милтон, неужели вам понадобилось столько лет, чтобы понять, что я вовсе не пуританка?» И он начал пить — не много, осторожно.
Долли, конечно, могла быть и в Тибете. Он лишь дважды видел ее после смерти Моди. Первый раз, когда он однажды вечером — через неделю после примирения с Элен — с опасениями и страхом вышел из дому и отправился на квартиру к Долли. Он намеревался изложить ей ситуацию возможно более честно, но отвратительно справился с этим. Как бы мало у мужчины не осталось под конец чувств к женщине, если они долгое время были вместе и близки, у него отложилась определенная терпимость к ее маленьким недостаткам, и он с таким же снисхождением вспоминал грязные тарелки в ее раковине, ее третьеразрядные книги и странный вкус в музыке, треснувшее зеркало, которое она так и не починила, как вспоминал ее губы и бедра. Вспоминая все это в связи с Долли, он расслабился к тому времени, когда подошел к ее двери, и после кофе с тортом, собравшись уходить, смутно пообещал ей скоро увидеться. Когда же она, взглянув на него с дурным предчувствием, спросила: «Когда, когда?» — он ответил лишь: «Скоро, скоро», — и вышел, преследуемый ее взглядом, который говорил: «Ох, ты же бросаешь меня».
Но он дал слово. Подумай он хотя бы минуту об этом предательстве, он понял бы, что погиб. Он старался забыть ее, и преуспел: она исчезла из его сознания подобно этим несчастным людям, замурованным в цементе, которых выбрасывают за борт, и они летят на дно моря. Хотя она его не забывала. Как раз когда он выбросил ее из головы, она начала звонить ему, и поскольку он неизменно вешал трубку, она стала слать ему записочки, написанные бледно-лиловыми чернилами, полные тоски и мольбы, надушенные и с приложением унизительных сувениров: роз, сорванных ими во время Недели садоводства в Вестовере, открытки, которую он купил ей на «Поездке в Небо», двух палочек от эскимо, которые они с осознанным легкомыслием ели на ярмарке в Ричмонде. Эти записочки стыдили его, возмущали; именно такие вещи, о чем он однажды рассказал Долли, говоря об Элен, — липучие сладостно-горькие памятки, доводившие его до исступленного раскаяния; наделав столько бед, сумеет ли он когда-либо зажить настоящей жизнью?
Однажды вечером Долли навестила его. Это был безрассудный поступок, но ей повезло, поскольку Элен на неделю уехала к своей невестке в Пенсильванию. Это была ужасная сцена. Долли ворвалась в дом с сильного дождя — мокрые волосы ее змейками налипли на лицо, она неуклюже пригрозила ему канделябром, ее вырвало на ковер, она поскользнулась и упала в лужицу, где и осталась лежать в беспамятстве. Лофтис впервые видел ее пьяной, и потому не знал, как с ней держаться. Он привел ее немного в порядок и отвез к ней на квартиру, где осторожно уложил в постель и какое-то время подержал за руку, слушая, как она бормочет, мешая фантазии с воспоминаниями. «Упокоенные в алебастровых гробницах, — эти строки он однажды прочел ей из книжки стихов, принадлежавшей Пейтон; строки, которые он забыл и не мог понять, как Долли могла их помнить, — спят кроткие участники воскрешения». И она опустилась на подушки словно Камилла и наконец благополучно забылась, а он, вытирая пот со лба и с болью сожаления в сердце, воздал Богу или кому-то свою первую в жизни честную молитву.
Больше она его не беспокоила. Из-за этого инцидента он еще сильнее постарался ее забыть. В конце апреля они с Элен сели на поезд и отправились на три недели на курорт под Эшвиллем, и там, среди затянутых туманом холмов, в прохладном, насыщенном ароматом папоротников воздухе, где небо над ними казалось бездонным озером, они оба успокоились. Он постепенно вернул ее мысли от Моди и заботливо заставил делать то, что полезно для здоровья, — плавать и ездить верхом, ходить по вьючным тропам. Лицо у нее было усталое и в морщинах, но в новом купальном костюме тело все еще выглядело теплым и способным воспринимать любовь. Он трижды занимался с ней любовью — сам акт ему не особенно понравился, но потом — когда она мирно дремала возле него — он был рад и горд, что находится тут, а не в постели с отдыхающей разведенной из Атланты, которая усиленно завлекала его и у которой была такая идеальная кожа, что казалось, хорошенький молодой овал ее личика покрыт лаком и рассыплется от прикосновения. Он с грустью подумал о Долли. Но!.. «Я люблю вас, мой дорогой, — снова и снова говорила ему Элен, — как могли мы потерять столько времени? Простите меня, — говорила она, крепко вцепившись в его руку, словно отпусти он ее, и они снова поплывут в разные стороны, — простите меня, простите, простите, я была такой дурой». И когда Элен говорила такое — совсем как в кино, с таким убеждением, он был не в состоянии решить, кто же из них был все-таки дураком — он сам или Элен.
Вечерами они пили слабое пиво военного времени с членом клуба «Ротари» и его женой из Лондона, что в Онтарио. Мужчину звали Малкольм Макдермотт; он появлялся в шотландских юбках и с изогнутой палкой, и слушать его было все равно что слышать, как вода с грохотом льется в старую ванну. Вопроса не было, как понимал Лофтис, кто носит юбки в семье, ибо он был из тех мужчин, при чьих высказываниях жена кротко присутствует подобно волнующейся горничной, и если она заговаривала, то с таким видом, словно только что застенчиво вбежала в комнату, чтобы стряхнуть крошку, и тотчас снова отходила к стенке. Ей было немногим больше пятидесяти, и у нее было пухлое лицо канадки с блестящими глазами. Когда Элен упомянула, что в их семье недавно произошла смерть, пухлые губки Кэти приобрели трагическое выражение, и она сказала Элен, что тоже перенесла потерю ребенка, но что она нашла чем себя отвлечь, и брякнула что-то насчет золотых рыбок.