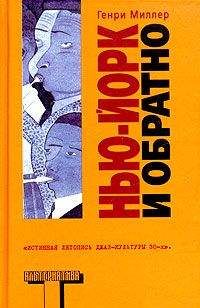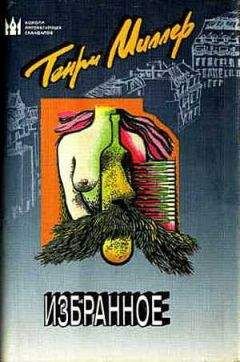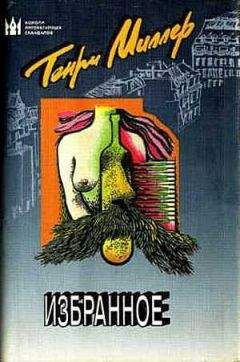Генри Миллер - Тропик Козерога
Я хочу полностью пробудиться, причем не говорить и не писать об этом, для того, чтобы принять жизнь целиком и абсолютно.
Я упоминал древних людей из отдаленных частей земли, с которыми частенько общался. По какой причине я полагал, что эти «дикари» способны понять меня лучше мужчин и женщин, окружавших меня? Может, я вбил это в голову, потому что сошел с ума? Ни в коем случае. Эти «дикари» — не что иное, как выродившиеся следы ранних человеческих рас, а те люди, я уверен, понимали действительность как нельзя лучше. Бессмертие этой породы людей у нас перед глазами постоянно в лице этих представителей прошлого, которые в поблекшем великолепии медлят с уходом. Бессмертна ли порода людская — меня беспокоит не слишком, но жизненность этой породы кое-что значит для меня, и в особенности, какой она должна быть: активной или подспудной, словно в спячке? В то время как жизненность новой породы дает крен, жизненность древних рас заявляет о себе пробуждающемуся разуму все настойчивее. Жизненность древних рас сохраняется даже в смерти, а жизненность современной породы, которая вот-вот вымрет, кажется уже не существующей.
Когда человек увлекает гудящий пчелиный рой в реку, пчелы тонут…
Этот образ я вынашивал в себе. Если бы только я был человеком, а не пчелой! По неясной, необъяснимой причине я знал, что я человек, что не утону вместе с роем, как остальные. Всегда при групповом порыве я вовремя отходил в сторону. Мне так нравилось от рождения. Какие бы неприятности не доводились испытывать, я знал, что это не смертельно, что это не навсегда. И вот еще одна странная вещь: когда меня призывали выйти вперед, я сознавал свое превосходство над вызывавшим меня, однако необычайное смирение мое объяснялось не притворством, а пониманием зловещего характера ситуации. Мой ум пугал меня с юношеских лет; то был ум «дикаря», который выше ума цивилизованного человека, поскольку лучше приспособлен к экстремальным ситуациям. Это жизненный ум; даже если жизнь проходила стороной, мне казалось, что я пустился в круг новой жизни, которая пока не обнаружила свои ритмы для всего остального человечества. Оставаясь с ним и не переходя окончательно в сферу новой жизни, я стал как бы приметой времени. С другой стороны, во многих отношениях я уступал окружавшим меня людям. Словно вышел из адского пламени не полностью очистившимся. Словно еще не сбросил хвост и рога, а когда меня обступали чувства, изрыгал серный яд, уничтожавший все. Меня всегда звали «везунчиком». Все хорошее, что случалось со мной, называли «везением», а беды относили на счет моих недостатков. Или, скорее, слепоты. Однако редко кому удавалось заметить неладное! Тут я был искусен как сам дьявол. А то, что я часто бывал слеп, мог заметить каждый. В таких случаях приходилось уединяться и становиться осторожным как сам дьявол. Я оставлял этот мир, добровольно возвращаясь в адский пламень. Эти уходы и приходы вполне реальны для меня, на самом деле, они даже реальнее того, что случалось между ними. Друзья думали, что знают меня неплохо. В действительности они не знали обо мне ничего по той причине, что я менялся бесконечно. Ни любившие, ни проклинавшие меня не знали, с кем имеют дело. Никто не мог сказать, что съел вместе со мной пуд соли, поскольку я все время обновлял свою индивидуальность. А то, что называется «индивидуальностью», я держал про запас до того момента, когда она усвоит надлежащий человеческий ритм, получив возможность сконцентрироваться. Я прятал лицо до того момента, когда смогу понять, что иду в ногу с миром. Все это, разумеется, было ошибкой. Даже роль художника, ставшего приметой времени, стоит принять. Действие важно, даже если активность оказалась напрасной. Не следует говорить: «Да, нет, да, нет», даже сидя в высоком кресле. Не стоит тонуть в волнах человеческих приливов и отливов, даже для того, чтобы стать Мастером. Каждый должен бороться с собственным ритмом — любой ценой. За несколько коротких лет своей жизни я вобрал опыт тысячелетий и растерял его, потому что не испытывал в нем потребности. Я был распят и отмечен крестом; я родился, не испытывая потребности в страдании — и все же не видел другого способа пробиться вперед, иначе как повторив драму. Мой ум восставал против этого. Страдание напрасно, твердил мне мой разум, но я продолжал страдать по доброй воле.
Страдание не научило меня ничему; другим, может быть, оно необходимо, но для меня оно не более чем алгебраическое проявление духовной неприспособленности. Та драма, которая выражается в страдании современного человека, ничего для меня не значит; фактически, она никогда ничего не значила для меня. Все мои Голгофы были псевдотрагедиями, крестными муками в розовом свете, дабы поддерживать адский пламень ярко горящим — для настоящих грешников, о которых можно ненароком забыть.
А вот еще… Тайна, окутывавшая мое поведение, становится глубже, чем ближе я подхожу к кругу кровной родни. Мать, породившая меня, была мне совсем чужой. Начнем с того, что, родив меня, она дала потом жизнь моей сестре, о которой я всегда упоминал как о моем брате. Сестра была безобидным монстром, ангелом, облаченным в плоть идиотки. В детстве у меня возникало странное чувство, потому что приходилось расти и взрослеть бок о бок с существом, приговоренным всю жизнь оставаться умственным уродцем. Быть ей братом невозможно, ведь невозможно считать этот атавистический телесный остов «сестрой». Мне кажется, самое место ей было бы среди австралийских аборигенов. Среди них она, может быть, добилась бы высокого положения и могущества, ибо, повторяю, была воплощением доброты. Она не умела причинять зло. Но к жизни в цивилизованном обществе она была не приспособлена; она не только не имела желания убивать, но и не имела желания преуспевать за счет других. К труду она была непригодна. Даже если бы ее научили изготовлять, например, взрыватели к фугасным бомбам, она по пути домой свободно могла бы кинуть зарплату в реку или отдать ее нищему на улице, не ведая, что творит. Нередко ее лупили как собаку в моем присутствии за такое проявление милосердия, совершенное, как они выражались, по рассеянности. С детства меня учили: нет ничего хуже, чем совершать добрые дела без всякой видимой причины. Сначала меня наказывали точно так же, как сестру, поскольку у меня тоже была привычка раздавать свои вещи, особенно новые, только что купленные. А в пять лет меня побили за то, что я посоветовал матери срезать с пальца бородавку. Однажды она спросила, как ей поступить, и я, обладая весьма ограниченными познаниями в медицине, велел отрезать ее ножницами, что она и сделала. А через несколько дней началось нагноение, и тогда она позвала меня и сказала: «Это ты уговорил меня срезать бородавку!», после чего мне устроили жестокую порку. В тот день я понял, что родился не в той семье. И начал с невиданной скоростью учиться. Вот и скажите после этого, что нет адаптации! К десяти годам я испытал на собственной шкуре всю теорию эволюции. Да уж, пришлось пройти все фазы животной жизни, не порывая уз с этим созданием, называемым моей «сестрою», существом, очевидно, примитивным, даже к девятнадцати годам не освоившим секреты азбуки. Вместо того, чтобы расти как сильное дерево, я стал клониться на сторону, полностью пренебрегая законом всемирного тяготения. Вместо того, чтобы выпустить веточки и листочки, я стал обрастать оконцами и орудийными башенками. По мере роста все сооружение превращалось в камень, и чем выше я становился, тем смелей пренебрегал законом всемирного тяготения. Я был феноменом на фоне пейзажа, из тех, что притягивают к себе людей и напрашиваются на похвалу. Если бы матушка предприняла еще одну попытку, она, наверное, родила бы удивительного белого бизона, и нас троих поместили бы до конца наших дней в музей, за загородку. Беседы, что имели место между пизанской башней, орудием бичевания, машиной храпа и птеродактилем в человеческой плоти,{134} были странноватыми, если не сказать больше. Темой беседы могло стать все что угодно: хлебная крошка, которую «сестрица» не заметила, убирая со стола; невычищенная куртка, которая в портновских мозгах папаши превращалась в клубный пиджак, визитку или сюртук. Когда я приходил домой с катка к обеду, говорили не о свежем воздухе, вдоволь доставшемся мне, не о геометрических фигурах, которые я выписывал на благо мышцам, — нет, все пересиливало крохотное пятнышко ржавчины под креплением: если его, видите ли, немедленно не удалить, это приведет к порче всего конька и утрате некой практической ценности, непостижимой для моего расточительного ума. Ничтожный пример, а все-таки это пятнышко ржавчины приводило к бредовым последствиям. Бывало, «сестра» ищет банку с керосином да и опрокинет горшок с черносливом, томящимся на плите. Возникает опасность для всей семьи — так можно лишиться необходимых калорий к завтрашнему обеду. Следует жестокая порка, не в гневе, нет, — так можно расстроить себе пищеварение, — но тихо и эффективно, словно химик взбивает белок, готовясь к проведению анализа. Только вот «сестра», не понимающая профилактического характера наказания, начинает издавать леденящие душу крики, и это так действует на папашу, что тот уходит из дому и возвращается часа через два-три мертвецки пьяный и, что еще хуже, начинает скрестись в дверь, сдирая краску. Крохотная чешуйка краски служит поводом для главного сражения, которое плохо влияет на мое воображение. Ведь в мечтах я часто меняюсь местами с сестрой и вместо нее принимаю все муки, да еще и худшие, усиленные в моем сверхчувствительном мозгу. Эти мечты всегда сопровождались звоном бьющегося стекла, визгом, руганью, стоном и рыданиями, и в мечтах этих я почерпнул неизреченное знание древних таинств, обрядов посвящения, миграции душ и так далее. А начиналось все сценой из обычной жизни: сестра стоит у доски на кухне, над ней возвышается мать с линейкой в руке и спрашивает, сколько будет дважды два? Сестра вопит: пять. Бац! Нет, семь! Бац!