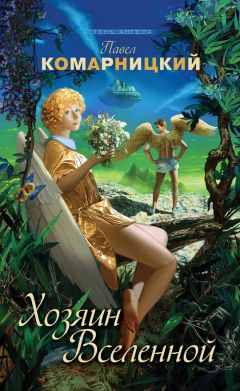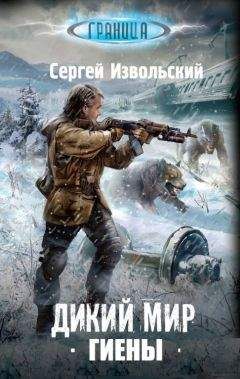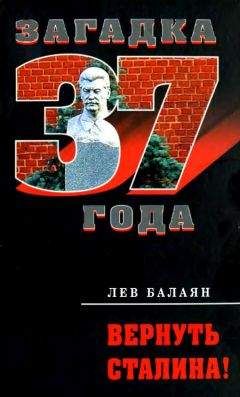Габриэль Руа - Счастье по случаю
И Эманюэля постепенно охватило негодование. Теперь и он, как многие другие, задал себе вопрос: «Мы, обитатели нижних кварталов, идем в армию и отдаем все, что можем отдать, — свои руки и ноги». Он поднял глаза к высоким оградам, к усыпанным песком аллеям, к пышным фасадам и продолжал: «А они — разве они отдадут все, что могут отдать?»
Загадочный, жесткий, отливающий сталью блеск дорогого полированного камня как бы коснулся его. И Эманюэль сразу осознал всю непомерность своих помыслов, всю глубину своей наивности.
Камень, кованые железные решетки, надменные, равнодушные дубовые двери, тяжелые медные молотки, железо, сталь, дерево, камень, медь, серебро — все, казалось, понемногу оживало и начинало говорить глухим, слегка насмешливым голосом, который отдавался в кустарнике, в подстриженных изгородях и разносился в ночи:
«О чем ты осмеливаешься помышлять, ты, ничтожное создание? Уж не возомнил ли ты себя равным нам? Но твоя жизнь — это самое дешевое, что есть на земле. А мы — камень, железо, сталь, золото, серебро — мы дороже и долговечнее всего на свете».
— Но жизнь, человеческая жизнь! — настаивал Эманюэль.
«Жизнь, человеческая жизнь! Ее цену еще никто никогда не определял. Она так ничтожна, так эфемерна, так хрупка — человеческая жизнь!»
Уставший от тяжелых раздумий Эманюэль добрался до обсерватории Вестмаунт, расположенной на вершине горы. Он оперся на парапет и увидел внизу бесконечное море огней.
Им овладела глубокая скорбь. Ему вдруг показалось, что он стоит совсем один во вселенной, над краем пропасти, держа в руках самую тонкую, самую хрупкую нить вечной загадки человечества. Богатство или разум — кто из них должен принести себя в жертву, кто из них обладает истинной властью дать человечеству искупление? И кто такой он сам, чтобы браться за решение этой проблемы и взваливать в этот вечер на свои плечи всю ее тяжесть? Молодой человек, который до сих пор вел довольно приятную легкую жизнь, молодой человек, которому были чужды серьезные тревоги и честолюбивые стремления, обыкновенный молодой человек, подобный многим, в меру образованный, со средним достатком, молодой человек, которого — если бы события не швырнули его в такой гигантский, в такой жгучий спор — никогда не коснулись бы никакие заботы, более серьезные, чем забота о службе, о спокойном и сравнительно обеспеченном существовании. Нет, все эти проблемы справедливости, спасения мира были выше его, слишком огромными, расплывчатыми! Кто он такой, чтобы пытаться постичь их?
И от этого ощущения тщетности всех его раздумий только усилилось чувство одиночества. Одно лишь одиночество он и мог измерить. Он мог оценить его глубину по той свободе, с какой растрепанные ветры носились над вершиной, напоенной ароматами. Он мог измерить его протяженность по расстоянию, отделявшему предместье от горы.
Склонясь над парапетом, он посмотрел на юго-западную часть города, и там, среди огоньков, мерцавших, словно светляки в озере мрака, он выбрал один, который мог быть огоньком дома Флорентины.
И тут же образ девушки завладел его сознанием, оттеснив все остальное, и сомнения, колебания, бурные душевные конфликты этого вечера утонули в острой жажде ласки и нежности.
XXIX
Смахивавший на трактир ресторанчик на берегу реки неподалеку от канала Лашин показался Флорентине веселым местечком — здесь, может быть, ее перестанут преследовать горькие сожаления, злые мысли изменятся и больше не будут отравлять душу. Разноцветные китайские фонарики покачивались на ветке дерева перед входом, и это медленное колыхание как бы перетряхивало, перемешивало их яркие краски; пестрая гирлянда цветных лампочек тянулась вдоль низкого порога. Найдя столь колоритное обрамление, владелец ресторана больше уже ни о чем не заботился, кроме рекламы всех имевшихся у него блюд, а также многих товаров, которых в его заведении, совершенно очевидно, быть не могло. Облезлая стена узкого фасада ресторана в буквальном смысле слова исчезла под рекламами: купальщицы в светлых бикини, растянувшиеся на крохотном пляже, неизвестно почему восхваляли тонкий аромат такого-то сорта сигарет; другие, еще менее одетые, рекламировали освежительные напитки. И таких реклам на металле, больших и малых, картонных афиш было невообразимое множество. Эффект от этой пестроты получался ошеломляющий, но Флорентине он понравился. О да, это был такой уголок, куда мрачным мыслям вход не разрешался.
Под лиственным сводом аллеи, в полутени, стоял только один металлический столик, заржавевший от ливней, с полустертым клеймом какой-то пивной. Проходя по аллее, Флорентина уронила:
— А здесь симпатично!
И, желая доставить ей удовольствие, Эманюэль пригласил ее пообедать в этом пригородном ресторанчике.
Но она отказалась от всего, кроме сосисок и бутылки лимонада. Внутри ресторана с потолка свешивались фонарики, такие же, как перед входом; легкий ветерок, долетавший с реки, непрерывно покачивал их. Столы были окрашены в ярко-красный цвет; по стенам висели простенькие картинки — японские пагоды, триремы, плывущие по тихому меловому морю, индусские храмы. В углу стояла механическая радиола, и Флорентина то и дело просила Эманюэля включать одну и ту же судорожную, синкопированную джазовую мелодию.
Обед им подавал сам хозяин. Очень скромный обед, ибо Эманюэль, видя, что у Флорентины нет аппетита, заказал для обоих только легкую закуску. Ресторанчик был почти пуст. Порой заходила какая-нибудь парочка, покупала сигареты или бутерброды, а затем с громким смехом и шутками уходила по дороге вдоль реки.
Этот день совсем не походил на те, что рисовались Эманюэлю в мечтах. Но все же ему нравилась такая атмосфера неожиданности и неизвестности. Ему все время казалось, что вот-вот будет произнесено какое-то слово, будет сделан едва заметный жест, от которого течение их жизней бесповоротно изменится даже без их вмешательства, и всей душой готов был принять эту новую судьбу.
Сегодня он побывал у пасхальной обедни в церкви Сент-Анри, надеясь увидеть там Флорентину, так как, снова охваченный застенчивостью, он предпочел бы встретиться с ней как бы случайно и не решался опять зайти за ней, боясь, что и на этот раз не застанет ее дома. Никогда он не забудет, как Флорентина приветствовала его со смешанным выражением радости и неудовольствия. Словно она боролась с желанием повидаться с ним… вот именно, словно она боролась сама с собой, словно она хотела и убежать от него, и остаться, и убежать и остаться!
Все, что было потом, показалось ему еще более запутанным, странным и сложным. Флорентина на церковной паперти в праздничном пасхальном наряде! Когда он увидел ее, то, взволнованный, не зная, с чего начать разговор, сказал: «У тебя новое платье!» И по привычке слегка ущипнул ее за руку. Она ответила ему быстрой судорожной улыбкой, потом нахмурилась, словно он чем-то задел ее. Но тут же сказала: «А ты все замечаешь! Другие мужчины и не видят, как женщина одета». Как будто он мог забыть ее черное шелковое платье, то, в котором она была у них на вечеринке, ее зеленую служебную форму и розовый бумажный цветок, который украшал ее волосы! Как будто он при каждой встрече не разглядывает жадно, во что она одета!
Они вместе сошли по ступеням церкви. Он шел рядом с ней в солнечном свете, подмечая все подробности ее нового костюма. И как радостно было сказать: «Мы вместе выходим из церкви и выглядим настоящими влюбленными!» Но он не мог понять ее странного замешательства. Она шла, покусывая губы и временами искоса бросая на него нерешительные, растерянные, чуть ли не сердитые взгляды. Он снова и снова вспоминал со всеми их оттенками и интонациями слова, которыми они обменялись в толпе — оба смущенные, донельзя смущенные: «Ты ничуть не изменился, Манюэль!» — «И ты тоже, Флорентина!» — «Тебя отправляют за океан?» — «Да, очень скоро. У меня отпуск на две недели, а потом…» — «Значит, это твой последний отпуск! Как мало времени…»
Она сказала «как мало времени» таким странным, таким задумчивым тоном, что Эманюэль жадно наклонился к ней, надеясь найти в ее глазах разгадку этих слов. Но она, отвернувшись, принялась размахивать сумочкой и нервно постукивать каблуками.
Почему она сказала: «Как мало времени»?
Он протянул руку через стол и сжал ее пальцы.
Она спросила его немного надменно, немного насмешливо, но в то же время с явной тревогой — ее брови нахмурились, а губы вздрагивали:
— Ты, по-моему, о чем-то все раздумываешь. О чем ты раздумываешь?
— О тебе, — ответил он очень просто, без лукавства и без ломания.
Она удовлетворенно улыбнулась, высвободила пальцы, которые он сжал слишком сильно, и вынула пудреницу. За то время, которое они провели вместе, она прихорашивалась уже в третий или в четвертый раз. Эта игра забавляла его. Флорентина напоминала ему умывающуюся кошечку. Он заметил, что, проводя пуховкой по носу, она поджимает губы, и лицо ее каменеет, а потом она обязательно послюнявит кончик пальца, чтобы поправить ресницы и загнуть их краем ногтя; все это развлекало и удивляло его, но, кроме того, он с недоумением замечал, что она ежеминутно разглядывает себя в зеркальце с сосредоточенным и сомневающимся видом. Что же так волнует ее?