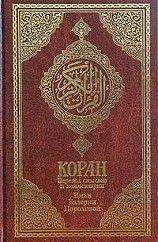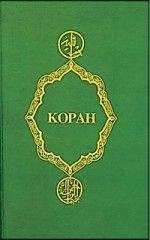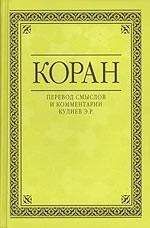Васко Пратолини - Повесть о бедных влюбленных
Синьора посмотрела на нее, и на ее губах мелькнула снисходительная усмешка. Но она ничего не ответила. Слова тут бесполезны. Впрочем, говорить она не могла, ей было трудно даже пошевелить губами. Она испытывала такое чувство, словно у нее распухли десны; ей было больно и неудобно, но по-иному, чем при обычных ее болях в горле: ей казалось, что рот у нее набит пищей или, скорее, льдом, толченым льдом, который в молодости, летом, она ела целыми ложками. Синьора думает о том, что все люди, включая и Аурору, смешны и ничтожны. Тупые, трусливые людишки, они считают, что польстили Синьоре, приписав ей свою собственную ничтожность и страх. Если бы опыт давно не научил ее тому, что люди маскируют свой эгоизм оболочкой доброты, достаточно было бы того, что произошло сегодня. Они вообразили, будто она хочет покончить с собой. Да как это можно! Ведь она дала им столько доказательств своей стойкости, мужества, привязанности к жизни! Какое оскорбление ей нанесли! Виа дель Корно за это поплатится! Только слабые, малодушные и конченые люди отказываются от борьбы. Обитатели виа дель Корно посмели бросить в лицо Синьоре оскорбительные слова. Погодите! Синьора отомстит вам за это. Достаточно было какому-то пьяному сапожнику завопить, и все тут же стали ему подпевать. Но, умоляя ее не бросаться из окна, они, конечно, беспокоились не о ней, а только о своих мелких душонках; они боялись неприятных волнений, от которых, чего доброго, у них в желудках плохо переварится бриджидино! Вот оно, людское лицемерие и эгоизм: оно у каждого написано на лице, а дурацкая натянутая простыня — это его знамя.
Синьора — существо чувствительное, возомнившее себя средоточием вселенной, она — диктатор и всем своим поведением весьма напоминает того, кто держит в своих руках власть в Италии. Синьора тоже руководствуется только своими настроениями и личными соображениями, не разбирая правых и виноватых, когда что-нибудь или кто-нибудь становится на ее пути. Она всегда считает себя великодушной, справедливой и вместе с тем уверена, что ее «предали» и «оскорбили». Ее девиз — месть. Всю свою жизнь она мстила. Ей никогда даже и в голову не приходит, что она первая наносит удары и оскорбления. Она обвиняла мир в эгоизме и лицемерии, а сама никогда не испытывала угрызений совести. Не значит ли это, что у Синьоры нет совести? Она любила себя так горячо, что уничтожила все свидетельства своей былой красы, — пусть смотрят на нее, какая она есть. Она столь жадно впитывала все впечатления каждого дня, что ей казалось, будто каждое утро она рождается заново — чистой и девственной. Возможно, втайне она считала себя бессмертной, предназначенной для вечной жизни: прожив положенный срок, она сможет вновь обрести дивную красоту тела, какая была у нее в золотые годы молодости.
Сейчас Синьора ощущает физическую боль и напряжение в каждом суставе, в каждой жилке, «скованность», как она говорит себе. Тяжелое ощущение усиливается, как только она вспоминает о Лилиане. Именно мысль о том, что Лилиана для нее потеряна, восстанавливает ее против всего человечества и внушает ей замыслы мести. Но даже образ Лилианы лишь смутно мерцает в сознании Синьоры. Больше всего ее мучит то, что она потерпела поражение; ее рот с сухими распухшими деснами наполняется горькой ледяной пылью. Синьора привыкла командовать и заставлять окружающих беспрекословно исполнять каждое свое желание, каждую прихоть, и теперь для нее невыносима жестокая очевидность: ведь она поставлена на колени, вызывает у людей насмешливую жалость. Это терзает Синьору, ее ненависть к тому, кто похитил Лилиану, смешивается с ненавистью и презрением к виа дель Корно, ко всему миру.
Но у нее возникло также и новое чувство, которое ослабляет ее способность сопротивляться и усугубляет ее поражение. До сих пор она никогда не испытывала нравственного унижения, а теперь вот уже долгое время ее наполняет неведомое ей прежде чувство, чуть не заставившее ее сдаться. Она не заплакала, потому что слезы были для нее явлением таким же неестественным, как речь для животного, и все же у нее возникла смутная потребность облегчить горе слезами. Это неслыханно! Впервые она почувствовала себя старой, покинутой и ощутила бремя одиночества. И, может быть, даже подумала о смерти.
Когда Лилиана убежала, Синьора бросилась к окну, надеясь вернуть ее силой своего взгляда. Напрасная надежда. И лишь только Синьора увидела, что Лилиана уходит, что она скрылась за углом, всю ее, с головы до ног, обдала горячая, а потом ледяная волна. Синьора закричала, и ее зловещий крик разнесся по пустынной улице. Она стояла, крепко ухватившись за подоконник и, мыс— ленно представляя себе, что делает сейчас Лилиана, напрягала всю свою волю, отчаянно пыталась вновь подчинить себе Лилиану, вырвать ее из объятий неизвестного любовника, вернуть к прежней покорности, к служению ей, Синьоре, и к тому, что Синьора называла «нашим причастием». Затем Синьора впала в забытье. Оцепенев, как в столбняке, она стояла, не думая и не ощущая своего тела, словно во сне. И как во сне, она видела внизу опустевшую улицу и все то, что происходило на ней за эти часы. Разбудил ее и вернул к действительности крик Стадерини. Комическое представление, которое разыграли корнокейцы, еще больше разожгло ненависть Синьоры и снова погрузило ее в отчаяние.
Синьора пожелала остаться наедине с Ауророй, потому что Аурора, хотя и принадлежала к ненавистному, презренному человеческому роду, но была еще молодой женщиной, одной из тех, у кого Синьора похитила частицу юности. Потом ее отняли у Синьоры, и она тайно отомстила за это, сокрушив старого Нези неслышными ударами своей «волшебной палочки». Аурора была в некотором роде ее сообщницей. У нее «лицо, на которое приятно смотреть», спасаясь от ужаса одиночества. А теперь остаться одной больше чем когда-либо означало для Синьоры ужас, тоску, может быть, смерть.
Мысль о смерти мало-помалу слилась с чувством одиночества. Горше смерти — одиночество и ожидание смерти: быть прикованной к постели, вечно видеть перед глазами все эти безделушки и золотые лилии, лежать здесь больной и старой, одинокой, под присмотром седой морщинистой старухи с потухшим взглядом и дряблой кожей… Мысли Синьоры снова возвращаются к Лилиане. Она вспоминает, что в последнее время Лилиана выражала отвращение к их близости. Ей, несомненно, понравился какой-то мужчина. И Синьора знает, как много любви и радости может ему дать Лилиана. Он пожнет плоды ее, Синьоры, трудов и стараний. Она задрожала на своем ложе. Долгие годы она вела сражение с мужчинами. Сперва открыто атаковала их, повергала во прах и попирала ногами. Затем начала с ними скрытую борьбу, отнимая их жертвы и узурпируя их власть. И вот теперь эта многолетняя битва должна закончиться ее капитуляцией? Она стара и совсем одинока в своей пустой комнате, украшенной золотыми лилиями. Синьора задрожала, словно перед ней предстало страшное видение. И все же она еще не отказалась от мести. Вся оставшаяся у нее воля направлена на подготовку мести. Но прежде всего надо узнать, кто он. Аурора допытается и скажет ей! Синьора мысленно избрала Аурору своей сообщницей: пусть она выследит Лилиану, все разузнает и сообщит.
Синьора хотела было дать Ауроре первые наставления, но что-то холодное и липкое заполнило весь ее рот, ей казалось, что у нее окоченели губы, а язык распух и как будто отвалился. Сперва она решила, что от пережитых волнений у нее обострилась болезнь горла и на это указывают появившиеся новые симптомы. Но вдруг мелькнула страшная мысль. «Паралич! Паралич языка!» — подумала Синьора. Она попробовала пошевелить языком и обнаружила, что не владеет им. «Не чувствую его больше». Она открыла рот, протянула: «А-а!…» Изо рта вырвался хриплый рев. Попробовала произнести первое пришедшее ей на ум слово: «Меня». Но с губ сорвалось что-то нечленораздельное, и снова раздался рев умирающего зверя.
Тогда Синьора пришла в исступление, ее ужас и отчаяние достигли предела. Тщетно пытались Аурора и подоспевшая к ней на помощь Луиза удержать Синьору. Она каталась по постели, засовывала руки в рот, царапалась, дралась и все время испускала нечеловеческие вопли. «Так, верно, воют грешники в аду», — думала Луиза. Больная вырвалась из рук удерживавших ее женщин и заметалась сначала по своей спальне, потом по всей квартире, ее дикий безумный взгляд горел жаждой убийства и разрушения. Она хватала и расшвыривала все, что ни попадалось ей под руку, с грохотом распахнула буфет, смела рукой тарелки — упав на пол, они разбились вдребезги, — швырнула о стену бутылку лакрима-кристи, суповую миску с золотой каемкой, бокалы, фарфоровый сервиз. Снова вернулась в спальню и, обстреливая Аурору и Луизу безделушками с комода, не подпускала их к себе. Это была беснующаяся и рычащая фурия. Она опрокинула кресло, сорвала со стены картину и ударом ноги подрала холст.
Перепуганные и бессильные, Аурора и Луиза забились в нишу окна. Они с ужасом смотрели на Синьору. А у той был лик разгневанного божества: она ломала и топтала ногами мир человеческий. Синьора дрожала всем телом от звериной злобы, по подбородку у нее текла зеленоватая слюна, длинные, украшенные драгоценностями пальцы напоминали сверкающие когти. Атласный халат блестел при каждом ее движении, в черных глазницах зрачки пылали адским огнем, которым она хотела испепелить все окружающее.