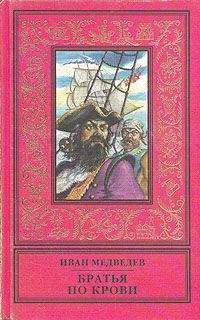Анатолий Тоболяк - Невозможно остановиться
Боль, муть. Пью, ем. Вскоре прислушиваюсь к Российскому радио. Вскоре начинаю читать газеты. Вскоре обкладываюсь книгами и журналами. Вскоре вновь появляется Лиза-путешественница. Наш диалог (в журнальном варианте):
Я. Здравствуй. Посвежела. Красивенькая. Как съездила?
ОНА. Хорошо. А ты как?
Я. Восстанавливаюсь. А ты как?
ОНА. Что?
Я. Ну, как ты?
ОНА. Что ты хочешь сказать?
Я. Я хочу спросить: как ты вообще-то?
ОНА. Считай, что хорошо. Яблоко хочешь?
Я. Не ем. Спасибо.
ОНА. Тебе трудно угодить.
Я. Да, привередливый. А ты не хочешь посетить мою квартиру?
ОНА. Зачем?
Я. Тараканов подкормить. Пожить там.
ОНА. Слушай, давай не будем об этом.
Я. Ни о чем не будем?
ОНА. Да, ни о чем. Так лучше.
Я. Ладно, давай. А все-таки съезди. Там в кухне пакет. В пакете журнал. В журнале несколько страниц рукописи. Начало одной новой штуки. Называется «Невозможно остановиться». Можешь привезти?
ОНА. А ключ?
Я. Толкнешь плечом.
ОНА. Хорошо. Привезу.
Я. И чистой бумаги. И ручку.
ОНА. Хорошо.
Я. А больше ни о чем не будем говорить существенном?
ОНА. Нет.
Я. А то давай поговорим.
ОНА. Нет. Не хочу.
Я. Ну, правильно. О чем? О моей светлой любви ты все знаешь.
ОНА. Перестань, а то уйду.
Я. Лиза, Лиза! Какая ты, однако, молодая и глупая!
ОНА. Ну, до свиданья. Яблоки я все-таки оставлю. Рукопись привезу.
Я. А знаешь, Лиза, прилегла бы ты ко мне на пять минут, я бы за пять минут выздоровел.
ОНА. Не будь сволочью. Не пользуйся своим положением.
Я. Да, верно. Извини.
ОНА. Выздоравливай. Рукопись привезу, если найду.
И уходит, светлоликая моя, без прощального поцелуя. И вскоре привозит дорожные мои листы, числом немного. А затем — через две недели? — после длинной-предлинной паузы появляется в последний раз.
Едва она входит, как я, пишущий в лежачем положении, в страхе застываю. Дыхание мое прерывается. Меня не добили во дворе микрорайона, а она сейчас, чувствую, прикончит. Без железного прута, без нунчака, без кастета. Лет на тридцать выглядит. Сильно, ненатурально накрашена, как никогда. Зеленые глаза не мигают.
Присаживается рядом на стул. (А мой сосед — понимающий — удаляется в коридор.)
— Ну, сообщай, — выдыхаю я.
— Юра, я уезжаю. — За все время первый раз по имени.
— Опять в командировку? — кривлюсь я под своими бинтами. (Ложь во спасение.)
— Нет, в Москву. Домой. Практика у меня закончилась.
— Вот как. Уже. И когда вернешься? — Я тянусь за сигаретами, я покуриваю тайком в палате.
— Слушай, ты же знаешь, что я не вернусь. Знаешь ведь. Зачем же спрашиваешь? — не мигая глядит Л. Семенова.
— Откуда мне знать? Я думал, у нас уговор, что перейдешь на заочный и вернешься. Я точно помню, что у нас был такой уговор. Мне память, к сожалению, не отшибло. Я точно помню, что мы договаривались: переведешься на заочный и приедешь. Был у нас такой московско-тойохарский пакт? — внятно выговариваю я.
— Был, Юра, да сплыл, — жестко выговаривает взрослая, умная, мной воспитанная Л. Семенова.
— Как же так? Это нехорошо — нарушать пакты. Ты, наверно, обалдела и плохо соображаешь. Я столько сил приложил, чтобы ты меня полюбила. Незаметно сам в тебя врезался. А ты вдруг все рвешь, как дура. Это как?
— Хорошо, считай, что я дура. Но я все равно сюда не вернусь.
— Это очень по-женски, Лиза. «Пусть я трижды неправа, но сделаю по-своему!» Страшно примитивно, Лиза. Ты ли это? — беру ее за руку.
— Спроси себя, почему я стала такая, — освобождает она свою руку. (Не жалеет страдальца!)
— Неужели не можешь простить? До сих пор? — вопрошаю я.
— Не в этом дело. Давно простила. Что тебя обвинять! До тебя все равно не доходит. Дело в том, Юра, что я не умею жить одним днем, как ты. А никакого будущего с тобой не вижу. Неужели не ясно?
— Ты баба, — твердо заявляю я.
— Согласна. Баба. Кто же еще?
— Бабенка. Не журналистка. О, нет!
— Пусть так. Оскорбляй дальше. Ты больной. Тебе можно.
— А почему говоришь чушь? — вскрикиваю я. — «Не вижу будущего!» Какое будущее тебе надо? Коммунизм, что ли? Этого я не обещаю. А любить люблю. Слышишь, что говорю? Я же тебя люблю. Вас миллионы, а люблю только тебя, поняла? Мало тебе?
— Перестань. Прошу.
— И ты меня любишь по-страшному. Скажешь, нет?
— Нет.
— Врешь! Себя обманываешь. Я знаю, чего ты боишься. Ты думаешь, что я каким был, таким и останусь. Дурочка! Это невозможно. Мне не зря башку пробили. Я тут лежу, думаю и принимаю ответственные решения. А ты заявляешь, что уезжаешь навсегда. Совесть есть?
— Безнадежен, — вздыхает Лиза. Грустно так. Печально.
— Не уезжай, — говорю я. — Пожалуйста. То есть уезжай. Пожалуйста. Переводись на заочный и возвращайся.
— Нет, Юра, — качает она головой.
«Ах, какая сучка!» — думаю я в совершеннейшем отчаянии. И говорю:
— Слушай, ты, может, боишься, что я стану калекой, инвалидом? Хреновина какая! Все срастется, зарубцуется. Никаких последствий не будет.
— Дай Бог, — опять по-старушечьи вздыхает Лизонька.
— Ну вот. Выздоровлю на все сто. И все пойдет по-иному. Мы, знаешь, как будем жить? Прекрасно! Я работать буду, как пес, и дома, и в редакции. Ты мне будешь помогать, а я тебе. Роман напишу, вот этот… он может бестселлером стать. Деньжищ получим кучу. Носить на руках тебя буду. Ребенка родим. Хочешь ребенка? Я хочу, я еще не старый пень. От меня, знаешь, какие дети рождаются — чудо! Мы весело будем жить, вдохновенно, слышишь? Нам завидовать будут. А с питьем я покончу. С бабами тоже. Обещаю. Клянусь.
— Мне уже пора идти.
«Ах, какая сучка!» — опять думаю в совершеннейшем отчаянии. И продолжаю:
— В постели я еще лет двадцать буду дееспособен, а то и больше. Это пусть тебя не волнует.
— Рада за тебя. Мне пора. Юра.
— А что тебя ждет в твоей задолбанной Москве? — стараюсь не слышать ее слов. — Ну, встретишь какого-нибудь Апполона, молодого, красивого. А он окажется на поверку гомиком и сволочью. Может такое быть?
— Я тебе желаю. Юра…
— Чего? Смерти? Ты добьешься — я сдохну. Без тебя покачусь вниз, это точно. А с тобой не покачусь. И ты со мной расцветешь, уверен!
— Ну, хватит! Хватит! — вскрикивает умная Лиза с искаженным лицом. Пытается встать, но я удерживаю ее за руку.
— Вернешься?
— Нет.
— А знаешь, как это называется? — ору я на всю палату. — Сучье предательство!
— Пусть. Прости. Пусти, пожалуйста.
Я вдруг слабею, палата плывет в глазах.
— Ну, что ж, — говорю. — Ладно! Уматывай. Не поминай лихом.
— Вот возьми. Я тебе кое-что написала, — протягивает она мне конверт. А в конверте, надо думать, письмо. Без этого они не могут, без таинственности, без своих женских штучек-дрючек. Записочки, интриги…
— Сейчас прочитать? — спрашиваю сквозь пелену.
— Нет, потом.
— Хорошо.
— Выздоравливай! — звенит ее голос. — Удачи тебе! («Вот сучка!») Захочешь — напиши. («Как же, жди!») Я тебя всегда буду помнить, Юра. («Это уж точно».) Жаль, что все так получилось. («Жаль, жаль».) Можно поцелую? («Целуй!»)
Целует. В губы мои закипелые. Рукой пишущей я прижимаю ее затылок и не отпускаю. Выдеру сейчас прядь волос на память с корнем. Прокушу ей губу, а еще лучше — откушу кончик языка. Ах, ты такая-сякая, сучка уезжающая, меня бросающая, ничего не понимающая, пропадающая вдали! Вот как возьму, да как орошу тебя слезами мужскими, редкоземельными, кровавыми, чтобы помнила и сама рыдала восемь часов в самолете и еще восемь лет потом. Дрянь драгоценная! Сука, сука! Обида, обида! Уничтожает на ходу, как собачница, сдирает шкуру с живого, повизгивающего. Сама слезами заливает мне лицо, сучара. Тяжело ей! Больно ей! Униженная и оскорбленная. Преступление и наказание. Не умеет и не желает рисковать. Счастье ей подавай самородное! А мук мученических Не переносим. В Москве, столице мира, найдем хахаля. Ах, пусти меня, Юра, пусти! Ах, подкатывает трап! Губы твои продажные век не забуду, сука. Сукой буду, ты меня доканаешь. Ну, еще разок. Ну, еще чуток. Ну, беги, ну, исчезай, пропадай, бедная Лиза! (Н. А. Карамзин, «Бедная Лиза», М., «Художественная литература», 1965 г.).
Я долго лежу потом с закрытыми глазами в своей темноте. Затем открываю глаза и читаю письмишко. Это не письмо даже, а деловое уведомление. Л. Семенова сообщает мне, что прошла в Москве первичный, нелегальный курс лечения — спасибо тебе, Теодоров, за подарок. Ей известно, что произошло в гостинице «Центральная», сестра Варя в ссоре призналась. А главное, что она на втором месяце беременности — благодарю, Теодоров! — и по приезду в Москву сразу сделает аборт, чтобы не плодить маленьких ублюдков Теодоровых. Точка. Абзац. Подпись: Лиза.
Такой вот документ, не заверенный, правда, печатью нотариуса. Правдивый документ, ничего не скажешь. Исторический в некотором роде. Его надо вставить в рамку и приладить на видном месте в моей квартире. Лучше всего в туалете. А рядом подвесить самого себя на крепкой веревке.