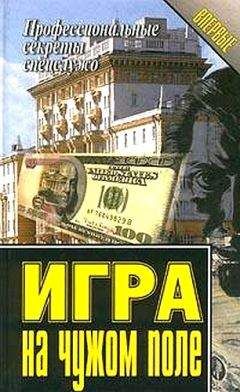Дмитрий Новиков - Рассказы
— Ты зачем ботаника сюда взял? — как–то быстро яркий сокол задал мне непозволительный вопрос.
— А ты кто сам, не ботаник? — так не люблю, когда посреди мира и веселья кто–то начинает морщить лоб.
— Ты быстро здесь освоился, — бывалый вид порой сбивает с панталыку. Но мне казалось — я таких видал.
— Смотрящий, что ли, за порядком?
— Нет, не смотрящий. Но борзых не люблю.
— Сынок, ты сам здесь самый борзый.
Яркому того и надо было. Я‑то уже опять захмелился.
— Пошли в кусты, поговорим.
— Пошли, — говорю, не парюсь даже. Чего–то злость такая взяла, что вот, и здесь найдутся люди, менеджеры среднего звена, которые умеют все поганить. Да люди ли?
— Давай–ка ножи здесь оставим, — хорошо, когда пьяный задор не теряет трезвых мыслей.
— Давай, — легко согласился мой противник, и мы положили на стол хорошие рыбацкие ножи. — Теперь пошли.
Мужики все замолчали. Неприятно как–то стало вокруг. Конев мой сидел, не поднимая глаз.
— Пошли, — я сделал шаг к кустам, попутно разминая руки да головой туда–сюда качнув, чтобы шея напряглась и крепко держала ее, — это важно бывает, когда получишь в лицо и боль застит глаза.
— Ты чего, боксер? — насторожился мой противник, замечательный такой — все сразу замечает.
— Боксер, — ответил я, хотя когда я был боксер — лет пятнадцать тому назад. Да и то низшего ранга и разряда.
— Ну ладно, — ответил яркий, и бой начался.
Ах, что это был за бой! Кусты трещали и ломались под нашей тяжестью, вес обоих был не мал. Яркий, как услышал, что я боксер, сразу стал за деревья прятаться и пинаться оттуда большими ботинками, хоть и был на полголовы выше меня. А мне так обидно это показалось, так хотелось этого бесенка наказать сразу и одним ударом, что я промахивался постоянно. Хмель, помноженный на ярость, — плохой помощник. А ярость была отменная — всегда в нашей жизни найдется тот, кто начнет диктовать, как нам нужно жить. И напористо так, словно один знает истину. А поддашься чуть — уже и на шею вспрыгнул, и понукает оттуда. И с уверенностью дьявольской, непонятно, откуда берется, ни тени сомнения посреди наглости. Очень не люблю я так. А потому и говорю:
— Подь сюды, чего ты прячешься?
А тот опять ногой из–за дерева — хабах, я еле блокировать сумел тяжелый ботинок, а то бы пах не собрать. Тут я совсем рассвирепел — чуть он только голову из–за дерева высунул, я ему левой в нее — буцк. Успел зацепить, чиркнул по скуле. Несильно получилось, но хоть раз попал. Заторопился, правда, и правой вслед — ащ наискось. Как перекрестил, получилось. Только так сильно, что самого на месте развернуло, и свалился я на колени. Яркий же, не будь медленным, выскочил из–за дерева и ко мне. И гляжу — ствол выхватил и ко лбу мне приставил. Ну, думаю, приехали, и холодный кружок так неприятно свербит кожу металлом. Но уж ярость никуда не делась. Поднимаюсь я с колен и говорю уродцу медленно и внятно:
— Если, — говорю, — пистолет свой смешной сейчас сам не выкинешь в кусты, я у тебя его отберу и по голове тебя забью нахрен его же рукояткой.
Смотрю, поразился он моей отваге и пистолет подальше кинул. Тут мы опять сцепились, но уже вяло, задышали тяжело, устали оба. На том и разошлись.
Я в палатку забрался, а там уже Конев лежит. Не спит, тревожится.
— Ты, — говорю, — про бесов все говорил, про кабиасов. Так вот встретились нам. Эти двое — точно нелюди. Только мелкие бесенята, немощные. Завтра увидишь.
А наутро проснулись от криков.
— Украли! — кричат. — Украли!
Я вылез на свет. Милиция уже тут, автоматчики с пистолетчиками. И наш знакомец как близким им докладывает:
— Был пистолет вчера, а сегодня нету. Вот право на ношение. Вот все прочие радости.
— Слышь, ты, — говорю ему. — Ты вчера пистолет свой сам в кусты закинул спьяну. Не помнишь?
Бросились они искать — лежит, родимый. Обложили они яркого матами, сели в моторку свою и умчались восвояси.
В этот день яркий как с ума сошел. Корежило его всего. Два раза еще кричал — то деньги у него украли на обратную дорогу. То рыбу пойманную. Ко мне же народ потянулся, с кем вчера выпивали, и другие прочие:
— Видели, как ты его учил вчера. И правильно. Он за три дня достал тут всех наглостью своей, хамло питерское. Правильно все.
— Да я не учил вроде, — а самому стыдно наутро.
— Да не, нормально все, — мужики говорят.
С ярким же точно что–то случилось. Точно бесы из него повылезали. Стал в истерике биться. Потом к людям пошел, к одному, другому, кем командовать до того пытался.
А все, не боясь уже, увидев, кто он есть, по–простому посылают его к матушке да батюшке. Первый, второй. Он к Васе, соседу нашему, а тот:
— Да надоел ты совсем. Не подходи больше.
Тут яркий к дереву, осине ближайшей, и давай вдруг рыдать неожиданно:
— Вы не знаете. Меня в детстве отец бросил. Я найду и убью его, убью!
И взрослый мужик, а плачет–заливается, как дите малое, брошенное. Аж жалко его стало. Вышли бесы из человека. Надолго ли?
— Ладно, — говорю, — хватит рыдать. Иди вон, горячего поешь.
Трудно порой, ой как трудно разобраться в человеке. Иной всем хорош — и пригож, и румян, и весел с притопом, а в душу заглянешь — есть что–то черненькое, какая–то червоточина. И такая она бывает извилистая, непростая — просто загляденье.
Другой же зол, как черт, несуразен, прихотлив, а прощаешь ему все. Потому что точно знаешь — свой человек, не продаст, не заступит за границу белого с черным.
Было у меня два друга — один с волосами, второй — без. Оба писали печальные и смешные книжки. Я в них прямо влюблен был за их талант и красоту.
С безволосым когда познакомился да почитал его первую книжку про войну — так и подумал: брат народился. Так он правильно все понимал, так писал искренно, с болью и бесстрашием. Такую женщину красивую любил, таких детишек славных нарожал! Да и сам хорош собой — взгляд пронзительный, голос зычный, подбородок небритый, мужественный. В солнечные дни над головой самодельный нимб стоит. Походка четкая была, как печатный текст. Не человек, а кумир молодежи и студентов. Он тогда еще весь в черном и кожаном ходил, даже и в носках. Но не это главное. Показалось мне вдруг, что не один я думаю о мучительных вещах, что нашелся наконец человек–глубокопатель, молодой, а правильный. Так он о жизни и смерти со знанием писал, так про детство рассказывал да про любовь плакал, как я почти не умел. Только потом что–то насторожило меня. Слишком уж все гладко и отважно получается. Будто по маслу пальцем — борозда заметная, а края оплывшие. Сначала я, после лет уже знакомства, все понять не мог — как же его зовут. То ли Мирон Прилавин, то ли Целестий Лабильный. Даже и сейчас не знаю. Как–то неуютно мне стало с человеком без имени дружить. А он пуще того — принялся революцией заниматься.
— За последние годы, — говорит, — у нас двадцать процентов населения заразились сифилисом!
Я от нынешнего времени тоже не в восторге. И про болезни разные побольше моего друга Целестия знаю. Туберкулез вырос и окреп, во всем мире про него забыли и лекарств новых не делают. И у нас не делают и забыли — и больные с открытой формой шашлыки на улицах продают. Да много еще другого, Мирону неведомого, по причине неспециального образования. Но чтобы двадцать процентов сифилиса…
— Слушай, — говорю, — дружище Мирон, вот нас пятеро тут стоит, беседует. Это значит — один из нас сифилитик. Давай–ка выясним — кто? А вот на рынке сто человек толкутся, включая стариков и детей. Двадцать из них — больные?
— Это статистика такая специальная, — быстро и правильно говорит мне Мирон, а глаза отважные и хитрые.
Дальше — больше. Гляжу, друг мой на государственном телевидении занимается революцией. А также в различных поездках за деньги налогоплательщиков.
«Какой молодец! — думаю. — Как он ловко занимается революцией под носом у властей!»
— Друг родной, — спрашиваю его, — а не боишься, что лодка раскачается с твоей помощью и не станет ни правых, ни левых, ни виноватых?
— Я знаю, что нужно начать, а там само все сложится, — заслушаешься моего красавца.
Дружу с ним, а все удивляюсь — и левак он, и православный христианин, и созидатель, и разрушитель одновременно.
— Да ты же бес! — догадался я внезапно.
Радуется.
— Поехали со мной на Север, — предлагаю, — почистишься.
— Я и так чистый, — отвечает. — Мне незачем.
Последний раз когда с другом моим общались, напились сильно, по–пролетарски, он бутыль со спиртом припас тогда. Мужикам пьяным — про баб да про машины поговорить, то–то радость.
Мы по Ленинградскому вокзалу тогда шли с трудом, возвращались после длительной поездки.
— Нравится мне мой джип, люблю большие машины, — по–рабочему честно сказал мне Мирон.