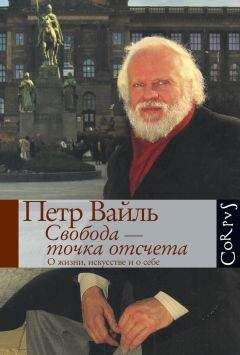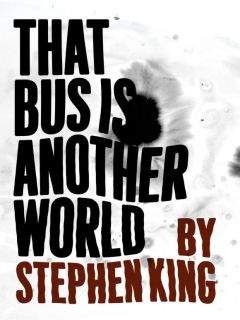Петр Вайль - Гений места
…Лицо куда непостижимей и надежней души, которая за ним живет…
Это опять о соотношении гения и места: форма важнее.
Сюрреалистический, призрачный, чужеродный континенту Буэнос-Айрес сделался у Борхеса городом вообще. Местный колорит обернулся глобальным размахом. Ничуть при этом не теряя конкретности.
Когда принимаешься читать Борхеса впервые, стремительно подпадаешь под мощь его, условно говоря, «вавилонских» вещей — и кажется, что он существует вне пространства, только во времени. Но чем пристальнее приглядываешься, чем вдумчивее читаешь, тем яснее — откуда он, где он вырос. И — что он вырастил, подобно Голему из романа Майринка и из своего стихотворения, которое он считал лучшим. Только выращенный Борхесом Буэнос-Айрес если и осыпается, то не рассыпался — его можно увидеть и потрогать.
Этот город начинается с угла Суипача и Тукуман, где родился писатель, и проходит множество других перекрестков.
Вот ключевое слово Борхеса.
…Старик, постигший, что в любом из дней грядущее смыкается с забвеньем…
внезапно чувствует на перекрестке загадочную радость…
Это чувство возникает внезапно и необъяснимо, без всякой внятной причинно-следственной связи — однако в связи с конкретным ощущением, имеющим не трактовку, но координаты, которыми естественным образом обладает перекресток. Там и фиксируется миг прозрения, то самое «мгновение, когда человек раз и навсегда узнает, кто он».
Не улицы, не дома, а перекрестки встают в памяти героев аргентинских рассказов и стихов Борхеса, в его собственных воспоминаниях и снах: «У моих сновидений точная топография. Например, я вижу, всегда вижу во сне определенные перекрестки Буэнос-Айреса. Угол улиц Лаприда и Ареналес или Балкарсе и Чили… Я уверен, что нахожусь на таком-то перекрестке Буэнос-Айреса. И пытаюсь отыскать дорогу».
Пересечение, распутье, античная коллизия. Место встречи, с которым сопряжено другое важное понятие борхесовского города, — дворик. Что может быть понятнее и прекраснее — встретились на перекрестке и пошли во дворик. А там:
Краткий праздник дружбы потаенной с чашею, беседкой и колонной.
Теплое чувство узнавания — только в моем случае во дворике вместо беседки была обычно песочница или хлипкий стол для вечернего домино, чашей служила баночка из-под майонеза, а чаще из горла, колонны не помню, колонны не было. Все остальное — в точности:
В границах столика текла иная жизнь.
То есть — та, которая и должна быть. Не случайная, почему-то прожитая на деле, а та, о которой узнаешь в свой единственный миг, о которой напоминает танго, которая хранится на перекрестках и во двориках города, бывшего единственной подлинной реальностью для слепца и сновидца. Потому-то он и возвращался к городу всю жизнь, называя свою первую книгу «Страсть к Буэнос-Айресу» прообразом всего, что было написано потом. В этот город можно вернуться каждому — хотя бы для того, чтоб убедиться: Борхес с каждым днем пишет все лучше и лучше.
ОБ ОБРАЗАХ И ПОДОБИЯХ
Латинская — но Америка, Америка — но Латинская.
В двух совершенно разных странах, в двух абсолютно не похожих друг на друга городах — Хорошего Воздуха и самого дурного в мире — действует это противопоставление. На площади Трех культур (ацтекская, испанская и современная) в Мехико разговорился с гидом. Наверное, когда-то в стране было полно памятников Кортесу — не сохранился ли хоть один? В ответ услышал про кровавого палача — в общем, то, что сформулировал в «Мексиканском дивертисменте» Бродский:
Главным злом признано вторжение испанцев и варварское разрушенье древней цивилизации ацтеков. Это есть местный комплекс Золотой Орды.
С той разницею, впрочем, что испанцы действительно разжились золотишком.
Гид, распаляясь, сказал: оставить монумент Кортеса все равно как возвести у вас памятник — вы откуда? из России? — так вот… Я замер: кого он назовет? На вид под шестьдесят, должен помнить войну, скорее всего будет Гитлер. «Памятник Кортесу в Мексике — все равно как в Москве памятник американцам!»
Как сошлись в этой фантазии стереотипы «холодной войны» и проекция своего отношения к Штатам: ничего гаже не представить. «В нищей стране никто вам вслед не смотрит с любовью» (Бродский).
Тяжелый комплекс богатого северного соседа одолевает Латинскую Америку. Здесь никто не назовет жителей Соединенных Штатов американцами. Они — americanos del norte, с уточняющим и умаляющим дополнением: северные американцы. Они хуже, но богаче и сильнее. Они опасны для американцев настоящих, латинских. В Аргентине издеваются над действительно смешными вывесками «Сандвичерия» и «Вискерия», но канью пьют в основном туристы. Официанты и таксисты охотно обсуждают вопрос с одним рефреном: «Неужели забудем такос и эмпанадос и перейдем на гамбургеры и хот-доги». Примерно то же пишут газеты: «Станем богаче, но потеряем самобытность». Узнаваемо.
Утрата самобытности латиноамериканцев волновала и Маяковского: «Буржуи все под одно стригут. Вконец обесцветили мир мы». И более конкретно — с переходом на мою «малую родину»: «Что Рига, что Мехико — родственный жанр. / Латвия тропического леса. / Вся разница: зонтик в руке у рижан, / а у мексиканцев „Смит и Вессон“. / Две Латвии с двух земных боков / — различные собой они / лишь тем, что в Мексике режут быков / в театре, а в Риге — на бойне». Нет, не только в этом разница — свидетельствую как рижанин, бывавший в Латинской Америке.
«Россия без поэзии российской была бы как огромный Люксембург», — цветисто написал Евтушенко. Опасная для жизни поэтов гипотеза: как бы не поверили.
Антибуржуазный пафос — красив и по видимости убедителен. Но именно его всевременность убеждает в его несостоятельности. На иностранное засилье жаловались все и всегда, но Буэнос-Айрес никогда не превратится в Лос-Анджелес, тем более Мехико не сблизится с Ригой, и Тимониха не сделается Мидлтауном, штат Коннектикут, пусть Василий Белов не боится. География — самая важная наука о человеке. Пампа — не степь, и степняк — не гаучо. Самогон под березой и пульке под агавой — только по видимости одно занятие: с похмелья встают разные люди. Можно развлекаться теоретическими построениями: Мексика, с ее стомиллионным населением, массой людей в сельском хозяйстве, комплексом по отношению к богатым соседям, слабостью среднего класса, ностальгией по славному прошлому, с ее мощным культурным потенциалом, заметной интеллигенцией и установкой на духовные ценности — сравнима с Россией. Можно сказать и так: Мексика — светлое будущее России. Броско, даже заманчиво, но неисполнимо.
Сходство на уровне геополитическом, иными словами, умозрительном — возможно. На человеческом, реальном — никогда. Человек в кирзовых сапогах и кепке с пуговкой, с бутылкой портвейна в кармане тесного пиджака, с небритым лицом и тревожным взглядом, знакомый, родной и близкий человек — разве он не загадочней любого ацтека? Ни на кого мы похожи не будем, даже друг на друга.