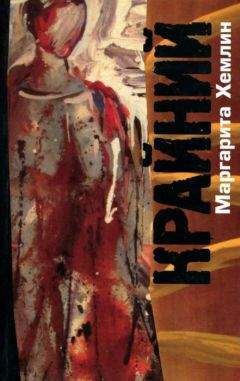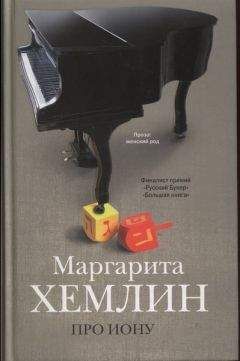Маргарита Хемлин - Дознаватель
Вдруг он крикнул в окно — я перед тем, как лечь, раскрыл настежь для воздуха.
— Сунька, беги отсюда! Беги!
Я захватил Мирона поперек живота, повалил на себя — на кровать, потом подмял. Он бессильно вытянулся подо мной. Как Зусель. Я отвалился вбок.
Через несколько секунд Мирон разлепил глаза. В мою сторону голову не повернул. Хоть, конечно, чувствовал, что я рядом. Впритык. Между ним и стенкой.
Я перелез через него, как через колоду, сел с краю.
На улице слышались голоса Симы и Суньки. Сунька хотел зайти в дом, Сима не пускала.
Мирон лежал и говорил. Медленно, как картину пересказывал своими словами.
Он вытерпел неделю после того, как отдал бланк Полине.
Явился к ней в Чернигов с твердой уверенностью: надо бланк изъять обратно, и пускай она делает что хочет дальше. Одно — Сунька и его, Мирона, ошибки молодости, другое — официальный бланк на сомнительные цели. Что касается Симиной неискупаемой вины перед Полиной — так она, вина, и есть неискупаемая. И что ж, всю жизнь за нее быть виноватым? Неискупаемую вину надо или прощать, или забывать, не простивши. А жить с ней невозможно. И Полина обязана или простить, или дать забыть.
Лаевская открыла дверь, поздоровалась тихим голосом, даже радостно, попросила обождать немножко. Шила детское платье. С бантиками, ленточками, оборочками. И всего на платье было уже много. А она все тулила и тулила в разные места украшения. Наживит — встряхнет платье, отпорет бантик и опять пришивает. В другое место.
Мирон смотрел-смотрел и сказал: «Полина, у тебя срочная работа. Я, может, не вовремя. Мне в облисполком еще надо. Когда к тебе зайти?» Полина быстренько свернула шитье и сказала: «Ничего, ничего. Не срочно. Я как начинаю бантики тулить, так остановиться не могу. Даже хорошо, что ты меня остановил. Я меры не знаю. Хочется красиво сделать. А если лишнее — уже не красиво. Я сама лишнего не люблю. Но детское — сам понимаешь. Оно манюсенькое. Трудно определить, лишнее или кажется».
Полина скомкала материю, тесемки, кружево. С-под стола выволокла большой клунок, развязала и стала запихивать платьице туда. Скользкий шелк разворачивался и выскальзывал, Полина запихивала и запихивала. До такой степени, что разворошила весь тюк. Мирон увидел, что платье не одно, а по меньшей мере их десять. И все небольшие. Детские. Готовые, на его взгляд. Только сильно помятые. Что и понятно — находились в скомканном состоянии.
Он сказал: «Что ты мнешь? Говорю, не спеши. А то всю работу насмарку. Мамаша забирать придет — платить откажется». Пошутил. А Лаевская ответила: «Не волнуйся, Мирон. Я и есть мамаша. Я себе плохо не сделаю». Окончательно запихала в тюк платья, убрала под стол. Победно взглянула на Мирона.
Речь свою Файда репетировал-репетировал, но тут понял — ни слова ей сказать поперек не сможет. Спросил, как идет выполнение задания по детским домам.
Полина ответила, что еще вплотную не приступила. Надо хорошо подготовиться. Черниговскую область она себе обеспечила с помощью бумажки Мирона, но еще остальная страна не охвачена. Хоть она надеется, что закроет выполнение плана в пределах Черниговской области.
Мирон слушал Полину, и до него дошло окончательно, что никакого особого задания нет. Есть вывих Полины в сторону своих безвременно погибших девочек. И историю с детскими домами она придумала лично для Мирона для выманивания у него бланка. По правде она намерена обыскать все детские дома Советского Союза для обнаружения своих детей. И мало что детские дома. Она всю страну намерена обыскать. И связи налаживает с такой целью.
Мирон решил устроить провокацию. Спросил, может ли чем-то помочь. Кроме бланка. Потому что он считает, что задание Полине дали, а способствовать не хотят. Даже письмеца завалящего на солидном бланке не выдали. Пришлось Полине обращаться к нему. Удивительно, какая безответственность. Раздают задания — и делай как хочешь. Получается, Полина на свои заработанные средства будет ездить, а это на самом деле — командировки. Положены и командировочные, и суточные. Не говоря про то, что надо детей из детских учреждений везти к новым родителям или родителей к ним. Расходы огромные. В общем, трещал-трещал Мирон, вроде на собрании, и руками махал, и ногой топал, что пускай Полина как хочет, а необходимо ей поставить перед уполномочившими ее органами вопрос, чтоб подкрепили ее материально и специальными удостоверениями, и странно, что Полина при ее деловых качествах сразу не потребовала, а теперь вынуждена крутиться. Речь идет о детях! Мало того что к ним национальность и политику прикрутили, так еще и поручили беззащитной женщине. И под конец вырвалось у Мирона про «и ладно б только, что беззащитной, но и самой пострадавшей, потерявшей семью».
Опомнился, прикусил язык. Но поздно.
Полина сказала: «Молчи, Мирон. Ты думаешь, я помешалась? Немножко есть. Немножко. Вот настолько. — Полина показала ноготь мизинца. — Там, где мои девочки у меня внутри живут, — да, я помешалась. Остальное место здоровое. И много места. Видишь, какая я. Ты против меня сморчок. А в голове у тебя никого мертвого нету. У тебя все живые. И Сима, и Сунька. — Полина поднялась на цыпочки, потянулась, развела руки в стороны, потом свела, выгнула спину и задрала подбородок. Засиделась над шитьем. Устроила себе по привычке производственную гимнастику. — Еще недельку назад у меня надежда была. Я и правда думала — найду своих девочек. А вчера надежда кончилась. Ты Лильку помнишь? Евкину сестру? Конечно. Она придумала тебе Суньку подкинуть. Так слушай. Лилька живая. Страшнючая, худая, затравленная, но живая. Волосы торчат рыжие, не волосы — патлы. Встретила ее вчера на базаре. Неизвестно чем живет, по углам, работы нету. Нищая. Я б ее не узнала. Она первая подошла. Привела ее к себе, отмыла, накормила. И послушала. Всю ночь слушала. За язык не тянула…»
Полина перевела дух, и Мирон увидел, какая она большая, высокая. Раньше не замечал. Он украдкой кинул взгляд на ноги — не на каблуках ли Полина. Нет.
Полина заметила: «Слушай, Мирон. Нечего меня оглядывать. Мои дети — Рая, Соня и Мила — погибли в огне. Это видела лично, своими глазами, Лилька. Вот так. И партзадание мое теперь можно засунуть в задницу. Я его себе придумала. Я его отменяю. А ты, Мирон, свободный. Бланк у себя оставлю. Ты не сильно за него пекись. Мало ли как он у меня мог оказаться. Ну уже если дойдет до отпечатков пальцев — тогда не знаю. Отбрешешься как-нибудь. С Симой посоветуешься — и отгавкаешься». Полина во время разговора пришла в себя, закончила речь своим обычным голосом. До такой степени обычным, что Мирон усомнился, или она ему сейчас выложила правду.