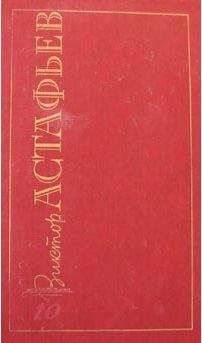Виктор Астафьев - Царь-рыба
Выстрелы! Бестолковые, лихорадочно-поспешные, чтоб выхвалиться друг перед другом, и наконец один, не самый трусливый и подлый, выстрел ударил пулей в большое сердце животного, изорвал его. Зверь с мучительной облегченностью рухнул на костлявые колени, как бы молясь земле иль заклиная ее, и уже с колен тяжело и нелепо опрокинулся, взбил скульптурно вылепленным, аккуратным копытом, в щели которого застрял мокрый желтый мох, ворох снега, хриплым дыхом красно обрызгал белую поляну, мучаясь, выбил яму до кореньев, до осеннего листа и травки.
Катятся с лабазов зверобои, бегут по снегу, вопя, задыхаясь и завершая какой-то, ими самими определенный ритуал или насыщая пакостливую жажду крови, разряжают в упор ружья в поверженное животное.
…Однако отвлекся я, да еще в такой ответственный момент, когда молодой и очень азартный человек, обдирая колени и локти о коренья и валежины, порвав комбинезон и отпластав карман куртки, движется к цели, чтобы добыть лося на еду работающим тяжелую работу людям.
Выглянув из-за своего разутого, раздетого «стального коня», боевой его экипаж обнаружил, что сохатый не дожидался их, на месте не стоял. Он брел по речке, жрал траву и по всем видам скоро должен был удалиться в мелкую заостровку, которая кишела мулявой — гальянами. Геологи иной раз забредали туда, поддевали рубахой либо полотенцем муляву — лапшу, варили ее, пытаясь разнообразить пищу и расширить «разблюдовку» — так в отряде просмеивали свое меню. Трава в заостровке росла худая, от мути грязная, мохнатая. Сохатый бросит жировать, подастся на свежье, а то и вымахнет на берег и уйдет «домой» — что ему, большому, свободному, ходи куда хочешь, а ты вот попробуй его сыщи в таком широком месте, в такой захряслой, мусорной тайге, сплошь забитой валежником, веретьем и хламом.
Аким пошел прыжками от дерева к дереву. Петруня за ним, но Аким передвигался бесшумно, заранее уцелившись глазом, куда поставить ногу, Петруня же хотя и пытался быть тише воды, ниже травы, укротить в себе шумы, запереть воздух, не трещать сучками, не раскашляться не мог, не получалось, и все тут. Это уж всегда так, когда изо всех сил стараешься не закашлять, непременно закашляешь и наделаешь шуму. Аким решил погрозить Петруне кулаком, обернулся — и чуть было не подкосились у него ноги — соратник его неузнаваемо преобразился: волосы вздыбились, рожу, черную от мазута, охватило чахоточным жаром, страстью пылало лицо, дожигало глаза, сверкающие беспощадным и в то же время испуганным пламенем. И понял Аким: Петруня хоть и отбывал два раза срок за буйные дела, на самом деле человек робкий, может быть, даже добрый, однако извилистые пути жизни все далее уводили его от добродетели.
Задушевно выбухав кашель в ладони, Петруня вопросительно глянул на связчика и покрался, как ему мнилось, кошачьи осторожно. Однако по мере приближения к цели совершенно перестал владеть чувствами, воспламенялся в себе самом, ноздри его шумно сопели, обсохший рот пикал чем-то — икалось от перенапряжения.
Аким знаком приказал Петруне остановиться — никуда уже он не годился. Сглотнув слюну, Петруня согласно кивнул головой и упал под дерево в мох. Аким успел еще мимолетно подумать: не утерпит ведь, идолище, следом потащится! Но было ему в тот миг не до соратника, переключив все внимание на зверя, не отрывая взгляда от сохатого, он катился на спине по сыпучей подмоине на берег, подобрался на карачках к приплеску и запал в таловой коряге, выбросившей пучки лозин.
Стоя средь речки, сохатый поднял голову, подозрительно вслушивался, дышал емко, и речка тоже вроде бы дышала: сожмутся бока — убудет брюхо, и из-под него с чурлюканьем катнется вода, набрякнет тело зверя, раздуется — и вода, спрудившись, обтекает волосатую тушу, щекочет в пахах, опрядывает грудь, холодит мышцы под шерстью. Губа сохатого отвисла, глаза притомлены, но уши стоят топориком, караул несут. Дрогнули, поворотились раковинами туда-сюда и снова замерли. Ни один мускул зверя не шевелится, глаз не моргнет, губа подобралась, чует сохатый чего-то.
Для верности надо бы еще скрасть зверя саженей хоть пяток — больно запущенно, раздрызганно ружье, тот же Петруня бегал пьяный за народом, жаждая уложить кого иль напугать, но его начальник — «зук» тертый, заранее спрятал патроны, и Петруня с досады саданул прикладом о ствол дерева. Какое ружье выдюжит такое обращение? Пусть даже и отечественное, тульское, из всего, как говорится, дерева и железа сделанное.
Вверху зашуршало, покатились комочки, засочился струёй песок, стягивая серые лоскутки мха. «Петруня, пентюх, крадется! Спугнет зверя…» Аким взвел курки, поднял ружье к плечу, отыскивая мушкой левую лопатку лося, под которой, темный от мокра, пошевеливался завал кожи, как бы всасываясь внутрь и тут же вздуваясь тугим бугром — мощно, ровно работало звериное сердце. Задержав дыхание, готовый через мгновение нажать на спуск, Аким вздрогнул, шатнулся оттого, что сверху, вроде бы как из поднебесья, обрушился на него крик и не крик, а какой-то надтреснутый звук, словно повдоль распластало молнией дерево, и в то же время это был крик, сырой, расплющенный ужасом. Не слухом, нет, подсознанием скорее Аким уловил, после уж уяснил — кричал человек, и так может кричать он, когда его придавливает насмерть деревом или чем-то тяжелым, и сам крик тоже раздавливается, переходит в надсадный хрип не хрип, крехт не крехт, стон не стон, но что-то такое мучительное, как бы уж одной только глубью нутра исторгнутое.
Выскочив из таловых сплетений, Аким успел еще с сожалением заметить, как, взбивая перед собой воду, пароходом пер по речке сохатый к мелкой заостровке, в мохнато клубящуюся на торфяной пластушине смородину и дальше, в загородь перепутанного черемошного веретья.
Не опуская курков, с прилипшими к скобам ружья пальцами, Аким вымахнул на яр, в редкую, пепельно-мглистую понизу суземь, неприветно лохматую от сырых корост, сучковатую, ровно бы подгорелую, чуть лишь подсвеченную снизу мхами. В ельнике он углядел копошащегося лохматого мужичонку — тот что-то рыл и забрасывал чащей. На мужичонке не было обуви, весь он злобно взъерошенный и в то же время торопливо-деловитый — что-то потайное, нечистое было в его работе. «Беженец! Уголовник! На Петруню напал…» — Аким шагнул за дерево, не спуская глаз с мужичонки, чтобы из укрытия направить на него ружье: «Руки вверх!», а дальше уж что получится, может, и стрелять придется. Нога, осторожно прощупывая податливый мох, коснулась чего-то круглого, жулькнувшего, и сама по себе отдернулась, испугалась и, прежде чем Аким глянул вниз, ноги отбросили и понесли его невесть куда — на белом мхе, свежо обляпанном красной потечью, лежала человечья голова с перекошенным ртом и выдавленным глазом.