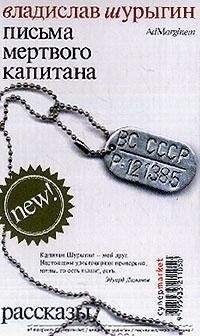Джоанн Харрис - Пять четвертинок апельсина
Несколько человек у фонтана пели что-то. Кажется, это были Рафаэль, Колетт Годэн, дядька Поля — Филипп Уриа с нелепым желтым платком вокруг шеи, Аньез Пети в праздничном платье, в лакированных туфельках и с короной из ягод на голове. Помню, на мгновение ее голос — не слишком стройный, но приятный и чистый, — взвился над остальными, и меня кинуло в дрожь, даже волосы зашевелились, словно тень, в которую Аньез суждено обратиться, уже летала прежде над моей могилой. Я до сих пор помню слова песни, которую она пела:
A la claire fontaine j'allais me promener
J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée
Il у a longtemps que je t'aime
Jamais je ne t'oublierai.[97]
Сейчас Томас, если это он прикатил, уже у Наблюдательного Пункта. Но Поль словно ко мне приклеился, явно не желая соваться в толпу. Нервно покусывая губы, он глаз не сводил с моей матери, стоявшей по ту сторону фонтана.
— Ты, к-кажется, сказала, ее н-не будет, — проговорил он.
— Откуда я знала! — буркнула я.
Мы немного еще постояли, поглазели на народ, высыпавший из церкви и спешивший подкрепиться. На бортике вокруг фонтана были выставлены кувшины с сидром и вином, и многие женщины, как и моя мать, принесли хлеб, булочки и фрукты и раздавали их у церковных дверей. Я отметила, что мать стоит несколько в стороне и мало кто подходит к ней за съестным, которое она так старательно готовила. Однако вид у нее был невозмутимый, даже несколько равнодушный. Лишь руки выдавали ее: белые, нервные пальцы так и впились в ручку корзины. Побелевшие губы закушены, лицо бледное.
Я нервничала. Поль неотвязно торчал рядом. Одна из женщин — кажется, сестрица Рафаэля, Франсин Криспэн, — протянула было Полю корзинку с яблоками, но заметила меня, и улыбка исчезла с ее лица. Почти все видели надпись на стене нашего курятника.
Из церкви вышел священник, отец Фрома. Его близорукие кроткие глазки сегодня гордо светились при виде своей сплотившейся паствы, золоченое распятие на шесте в его руках победно парило в небе. За ним двое мальчиков-служек несли Пресвятую Деву на желтом с золотом помосте, украшенном ягодами и осенними листьями. Ученики воскресной школы выстроились со свечками небольшой процессией и запели гимн урожаю. Девушки прихорашивались, играли улыбками. Ренетт тоже встрепенулась. Потом двое молодых парней вынесли из церкви королевский трон. Он был из простой соломы, верхушка и подлокотники — из кукурузных початков, а подушечка — из осенних листьев, но в тот момент, озаренный солнцем, он казался почти золотым.
У фонтана поджидало, должно быть, с полдюжины молоденьких девушек-претенденток. Помню их всех: Жаннетт Криспэн в своем обтягивающем платье для причастия; рыжеволосая Франсин Уриа с таким множеством веснушек, что их никакими отрубями не выведешь; Мишель Пети с косичками и в очках. Ни одна из них и в подметки не годилась Ренетт. И они это знали. Я поняла это по тому, с какой завистью и настороженностью они поглядывали на нее, стоявшую слегка в стороне от остальных в своем красном платьице, с длинными распущенными волосами и с вплетенными в них ягодами. Правда, и с некоторым злорадством: в этом году Рен Дартижан явно не быть Королевой урожая. Куда там; при таких слухах, что вились вокруг нас, как сухие листья под ветром.
Священник начал речь. Я слушала с нараставшей тревогой. Томас, наверное, там заждался. Чтоб не упустить его, пора вот-вот сбегать. Поль стоял бок о бок со мной и с дурацким упрямством глядел за фонтан.
— Это был год суровых испытаний, — голос кюре мирно зудел в ушах, как далекое блеяние овцы. — Но мы сумели пройти через них благодаря вашей вере и вашей решимости.
Я уловила в толпе нетерпение, сходное с моим. Они уже выдержали длинную службу. Уже пора короновать королеву, пора переходить к танцам и веселью. Я заметила, как какой-то малыш вытянул из материнской корзинки пирожок и незаметно от нее с жадностью, давясь, уплетает.
— Теперь пора перейти к веселью!
Это другое дело. По толпе пронесся гул одобрения и нетерпения. Отец Фрома тоже это уловил.
— Я лишь прошу, чтоб вы во всем соблюдали умеренность, — проблеял он. — Помните, какой праздник мы отмечаем, и помните о Том, без Кого не знали бы вы ни урожая, ни благости.
— Закругляйтесь, отче! — резко и насмешливо выкрикнул кто-то со стороны церкви.
Обиженно нахохлившись, отец Фрома все же сдался.
— Всему свое время, mon fils,[98] — укоризненно отозвался он. — Но, как я уже сказал, теперь наступило время начать празднество и с благословения Господа нашего избрать девицу в возрасте от тринадцати до семнадцати лет Королевой урожая, владычицей нашего праздника, и венчать ее короной из колосьев ячменя!
Его слова перекрыла добрая дюжина выкриков с именами, порой самыми несуразными. Рафаэль заорал:
— Аньез Пети!
И Аньез, которой было все тридцать пять, зарделась в смущении от счастья и в тот момент стала даже хорошенькая.
— Мюрьель Дюпре!
— Колетт Годэн!
Женушки при таких комплиментах, визжа, в шутливом гневе кидались целовать мужей.
— Мишель Пети! — заорала мать Мишель из чистого упрямства.
— Жоржетт Лемэтр!
Анри выкрикнул имя своей девяностолетней бабки, дико ржа от собственного остроумия.
Несколько парней назвали имя Жаннетт Криспэн, и она, раскрасневшись, уткнула в ладони лицо. И вдруг Поль, до того молча стоявший рядом, внезапно выступил вперед.
— Рен-Клод Дартижан! — громко выкрикнул он, нисколько не заикаясь, голосом мощным, почти как у взрослого, мужским голосом — ничего общего с его растянуто-робким бормотанием.
— Рен-Клод Дартижан! — снова повторил он, и все с любопытством, перешептываясь, повернулись к нему.
— Рен-Клод Дартижан! — опять выкрикнул Поль и пошел, держа в руке ожерелье из диких яблок, прямо через площадь к ошарашенной Ренетт.
— Вот, это тебе, — сказал он уже тише, по-прежнему без заикания, и надел ожерелье Ренетт. Маленькие красно-желтые яблочки сияли в красноватых лучах октябрьского солнца.
— Рен-Клод Дартижан! — еще раз сказал Поль и, взяв Рен за руку, возвел ее по ступенькам на соломенный трон.
Отец Фрома смолчал, неловко улыбаясь, но позволил Полю водрузить корону из ячменных колосьев на голову Ренетт.
— Отлично, — тихо сказал священник. — Отлично. — И громче добавил: — Отныне провозглашаю Рен-Клод Дартижан Королевой урожая этого года!
Может быть, всем слишком хотелось поскорей приобщиться к вину и сидру, в большом количестве принесенным сюда. Может быть, все опешили, услышав, как малыш Поль Уриа впервые в жизни заговорил не заикаясь. А может, достаточно было лишь взглянуть на Ренетт, оказавшуюся на троне: губы — как спелые вишни, солнце светится в волосах, окружая их ярким ореолом. Многие захлопали в ладоши. Некоторые даже радостно выкрикивали ее имя — в основном мужчины, отметила я, — даже Рафаэль и Жюльен Ланисан, которые были в ту ночь в «La Mauvaise Réputation». Но кое-кто из женщин не хлопал. Их было немного, всего несколько, но достаточно. Одна из них — мать Мишель, и еще такие злостные сплетницы, как Марта Годэн и Изабель Рамондэн. И все-таки их было мало, и пусть кто-то не особенно был рад, но в конце концов даже недовольные присоединились к толпе. Кое-кто даже зааплодировал, когда Рен стала кидать ученикам воскресной школы цветы и фрукты из своей корзинки. Начав потихоньку продвигаться из толпы, я бросила взгляд на мать и поразилась ее внезапному преображению: взгляд неожиданно сделался мягким и теплым, щеки зарделись, глаза сияли почти так же, как на забытой свадебной фотографии; сорвав с головы платок, мать буквально бегом кинулась к Ренетт. Мне кажется, только я заметила этот порыв. Все остальные смотрели на мою сестру. Даже Поль глядел на нее, стоя сбоку у фонтана, с тем же, будто и вовсе не исчезавшим, дурацким выражением. Что-то во мне сжалось. Влага так резко обожгла глаза, и на мгновение я решила, что какое-то насекомое — чуть ли не оса — случайно залетело в глаз.