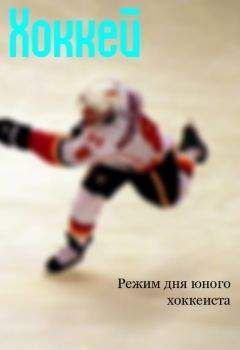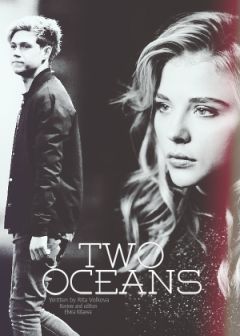Елена Сазанович - Всё хоккей
Я вышел с парикмахерской посвежевший и приободренный. Взглянул на себя в зеркало витрины. Да, выглядел гораздо моложе своих лет. Тьфу, что я говорю! Я выгляжу на свои года! Боже, за это недолгое время я даже забыл сколько мне лет. А ведь еще не так уж и много. В эти годы многие еще начинают карьеру, многие встречают первую любовь, правда, некоторые последнюю. Но я не про этих некоторых, мне нужно было думать о себе. Да, черт побери, портил вид моя одежда – по-прежнему от Смирнова. Наверное, единственное, что у меня еще осталось от Смирнова. Вылинявшая тенниска, узкие брюки с оттянутыми коленками и скривленные старомодные сандалии. Нет, они тоже не от Смирнова. Ведь он был совсем другой. И я это помнил. Наверняка, когда он был с моей матерью, он напоминал меня. Этакий денди с небрежной вечно блуждающей ухмылкой на лице, твердым взглядом и уверенностью, что впереди еще много времени для надежд и их исполнения. Времени и впрямь оказалось много. Но для чего?
Меня уже не на шутку раздражала эта одежда, которая была от Смирнова. И тем более даже не от него. Ни от кого. От подопытного существа, который оказался в лаборатории ученого и не выдержал эксперимента. И в итоге погиб. Ни я, ни Смирнов никакого отношения к этой одежде не имели. Чего не скажешь о том над кем экспериментировал Смирнов и кого я, в конце концов, убил. И до меня вдруг дошла неправильная, нелогичная, антинаучная мысль. Я убил не Смирнова! Я убил того человека, под которого приспособился Смирнов. И которого в итоге не было. Который не познал любовь и ненависть до конца, предательство, провала, удачи, поиска новой любви, соглашательства и несоглашательства с миром, желания и нежелания этот мир изменить. Я убил кого угодно, но не Смирнова. И возможно только поэтому Смирнов простит меня за убийство (если давно уже не простил). И возможно только поэтому я имею право простить себя сам… Стоп. Остановись. С плаката на меня нацелился револьвер. Он в кого-то должен был выстрелить. И не имело значения – в загнанного зверя, в человека, который жил под чужой судьбой. Или в меня. В любом случае – убить. И факт убийства никто еще опровергнуть не мог. Случайный он или нет. Предумышленный или спонтанный. Факт убийства остается фактом. И каждый должен за него отвечать. Если не в рамках закона. То в рамках своей памяти обязательно. Но память не мешает мне вновь быть свободным и не мешает быть свободным закон.
А сегодняшняя свобода для меня заключалась в очень малом – в этом бессмысленном шатании по вечернему городу в поисках звезд, о которых что-то восторженно болтала парикмахерша, и, конечно, в изменении облика. Я должен был во что бы то ни стало поменять сегодняшнюю внешнюю оболочку, словно какое-то животное должно поменять окрас. Я непременно должен был надеть другой костюм. Но возвращаться в прежнюю квартиру не мог. Она наверняка была в окружении репортеров. Впрочем, в окружении репортеров сегодня находилась вся моя жизнь и жизнь Смирновой, и, наверное, жизнь, нет смерть ученого Смирнова. Смерть, возможно, как ничто более всего подвержена окружению. Потому что из него никто не ищет выход. Просто некому его искать. Мы же со Смирновой еще могли найти. У нас еще был шанс.
И я сделал самое простое. Я купил себе приличные джинсы, майку и темные очки. Не самое дорогое, не знаю почему, но с некоторого времени мне стало стыдно одеваться в фирменных магазинах. Не потому что я был такой хороший, просто мне казалось, что эти магазины слишком плохи.
Вот и все, зверь сменил свою шкуру. И что дальше? И куда этому зверю деться? Конечно, самое надежное укрытие – вновь в бесцельном шатании по городу. Дом никогда не дает надежного укрытия. Укрытие может дать только пространство, и чем его больше, тем лучше. Но я был еще не привычным к такой безграничной свободе, она пьянила меня и пугала. И в итоге сковывала. А это уже мало напоминало свободу.
Пока я раздумывал, где провести эту ночь, мои ноги давно уже это решили. Нет, не ноги, а мой разум или, скорее, чувства. Камера хранения наконец-то была отворена. Я наконец-то решился найти ключ от нее. И использовать по назначению. Благо, номер я ее помнил и хорошо уже видел.
Сам того не желая, я пришел к дому, где жила Тоня. Поначалу даже оправдывал себя, нелепо и неловко доказывая, что шел к Максу. Конечно, не с целью найти у него прибежища, а просто поговорить по-мужски. Просто дать в морду. Но эту были только отговорки. О Максе я и не думал. Как ни странно не думал даже о его мелкой книжонке, написанной на основе размышлений великого человека, ученого Смирнова о талантливом человеке, хоккеисте Белых. Я, конечно же шел к Тоне. И эта трость, отброшенная в угол, и это легкое прыганье по лестнице, и эта модная стрижка «под ноль», и эти очки, засунутые в карман, и эта стильная одежда. Это была дань моей любви, в которой я себе не признался и вряд ли смогу признаться этой девушке. Сегодня я все делал ради нее. Но не хотел верить в это. Не хотел допустить мысли, что мое возвращение в мир, нет, не к себе, к себе я не могу и не хочу вернуться, просто в мир в котором я смогу и, может быть, еще смогу обрести право на жизнь, принадлежит девушке Тоне. И поэтому тут же нашел веский предлог оправдаться. Я шел укрыться у нее. Поскольку прекрасно знал, укрываются там, где меньше всего шансов, что смогут найти. Вряд ли у них даже мысль возникнет, что я смогу искать прибежище у соседки гениального писателя Макса, творящего под псевдонимом никому не известного Вересаева, к тому же бывшего любовника девушки. Нет, они до этого додуматься не могли. До этого додуматься мог только я. Не потому что был умен, и не потому что у меня была изощренная фантазия. Просто я хотел увидеть Тоню.
Дверь на мой звонок быстро открылась. Но я не бросился навстречу Тоне и не сказал ей что-нибудь циничное, чтобы не показывать свою любовь. У меня не было для этого возможности. Передо мной стоял профессор Маслов.
– Что вы тут делаете? – хмуро спросил он.
– Как жаль, что вы меня узнали, – заметил я с досадой. – Думал, что я изменился.
– В какую сторону?
– Надеялся, в лучшую.
– Как знать. Лучшая сторона – как обычно изнанка. Не боишься запачкаться. В любой момент можно вывернуться.
– Спасибо. И все же.
– Все же вы в любом случае изменились. Вы не тот хоккеист Белых, о котором трубила эта взбалмошная страна, и не тот чокнутый ученый, о котором эта взбалмошная страна молчала. Вы середина. Поэтому я вас и узнал.
– Спасибо. Спасибо за мнение о моей стране и обо мне. А еще спасибо за середину. Она и есть сердцевина. Как правило, в пище мы именно ее и предпочитаем, самое сочное, вкусное и полезное, – я вдруг некстати вспомнил гастрономические уроки Смирновой.
– Вы хотите, чтобы я у вас взял автограф? Весьма ценный автограф достойного человека. Прожившего достойную жизнь и легко с чужой жизнью расправившийся.
Вообще-то он неожиданно осмелел. Прошел в Тонину комнату, сел в кресло, затянулся сигарой и даже поболтал для придания непринужденной обстановки ногой. И даже чем-то напомнил Макса.
Без приглашения и я прошел в комнату, и сел напротив. Сигары я не курил, поэтому вытащил сигарету. Но на всякий случай огляделся. Вдруг где-нибудь прячется Тоня? Она была бы кстати? Или некстати?
– Ее нет, – резко и сухо ответил он на мое мотание головы. – И я бы предпочитал, чтобы и вас не было тоже.
Как не было? В этой квартире? Или в этой жизни?
Мне показалось, он на секунду замешкался. Но тут же взял себя в руки. Он был хирург. Хирурги ошибок не допускают. Во всяком случае, это догма. Он эту догму знал. Равно как и знал, что любая догма небезгрешна. Всего лишь понятие, но не практика.
– Эту квартиру я подарил Тонечке. И она прекрасно знает, что я могу в ней жить. Или существовать.
– Или существовать?
– Вас что-то волнует? Моя племянница? Ее жених Макс? Она, кажется, у него. Можете убедиться.
Здесь он хотел ударить побольнее, как врач, он знал куда ударять, в сердце, он был кардиолог.
– Нет, увы, нет. Хотя эти люди мне небезразличны. Меня лишь волнует медсестра Женя. Кстати, вы знаете, что ее жених (я применил его метод удара в сердце) разбился недавно.
На его лице ни дрогнул ни одна мускул.
– Женя? Медсестра? Ее жених? Да, что-то припоминаю. Хотя про жениха меньше. А я-то при чем? Жаль, что они ко мне не обратились, может быть, я бы им мог помочь.
– Вряд ли. Женя с машиной свалилась с крутого склона, ее лицо было изуродовано до неузнаваемости, хотя, думаю, вы как человек долго с ней проработавший все же бы узнали ее. А ее парень разбился… Да так, пустяк, на гонках. Гонщик – это его профессия. Профессия часто убивает. Впрочем, он не умер, но это одно и тоже. Он лежит неподвижный. Парень, который ни секунду не мог удержаться, каждое его движение, мимика, слово, только они были смыслом его жизни. Он этот смысл потерял. Правда, теперь прослушивает записи с автогонок, с шумами машин на автострадах! Он так счастлив. Знаете, одни тишину слушают, другие пение птиц, третье – визги машин. Наверное, еще есть те, которые слушают заводской гудок, а другие – взрывы снарядов, а кто-то – просто голоса своих любимых людей. Разные есть люди. Возможно, только в неподвижности и познается человек. Его суть. И его мечты о жизни, какой она должна быть, а если нет, то какой она для него могла бы быть настоящей. Может, только в неподвижности и познается настоящая мечта.