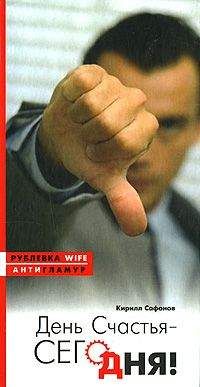То Хоай - Западный край. Рассказы. Сказки
— Наш долг, — заявил он в заключение, — оберегать заслуженный отдых народа после трудового дня. А Хай со своими дружками нарушал порядок и не давал людям спать.
— Прошу слова…
Многие просили слова. Обычно на этих собраниях уже третий оратор сбивался на середине своего выступления, терял, как говорится, нить и начинал повторяться. Сегодня же все было иначе. Даже те, кто возражали против предложения Бао, были немногословны и сдержанны. Они сочувственно слушали Бао, когда он говорил: «Дядюшка Ты много лет был среди лучших наших работников. Имеем ли мы право бросать его сына на произвол судьбы? Охаять человека — это ведь проще простого. А вот помочь…»
Да, отца Хая помнили все…
Это теперь долгими летними днями яркое солнце золотит на их улице чистые белые стены. И зеленая тень деревьев, посаженных на тротуарах, дотягивается уже до вторых этажей домов. А дядюшка Ты поселился здесь одним из первых, когда на улице поднимались только первые хибарки. Было ему лет за пятьдесят, и стал он «монополистом» — единственным среди соседей рикшей: сперва таскал ручную тележку, потом пересел на велоколяску. Тележка его разъезжала здесь еще с той поры, когда железнодорожная ветка доходила лишь до мощенной камнем дороги у ворот в начале улицы Кхэмтхиен и там путь перекрывал шлагбаум. В прошлую войну, когда французы оккупировали город, в коляску к дядюшке Ты уселся однажды пьяный в дым тэй и потребовал отвезти его к церкви Лиеузиай. Дядюшка Ты догадался, что тип этот из охранки — в церкви была устроена камера пыток. Те, кто попадали туда, редко оставались в живых. Подъехав к безлюдному темному месту за Слоновьим загоном, рикша вышвырнул пьяного из коляски, пнул его несколько раз ногой в затылок, потом приподнял коляску и проехал колесом по его шее. А сам потом налег на педали и умчался к Северным воротам.
Неизвестно, что стало с тем типом. Но если, по милости неба, он не издох, то, уж наверно, остался на всю жизнь калекой. Расправляясь с мерзавцем, дядюшка Ты был весь во власти охватившего его порыва, однако назавтра, пораскинув мозгами, он забеспокоился и решил бросить свой промысел. Он не возил пассажиров до того самого дня, когда наше Правительство освободило Ханой[106].
После восстановления мира дядюшка Ты заявил, что нынче настали другие времена — прекрасные и славные, точь-в-точь как те дни, когда Ты Хай вернулся с победой и всех, кто обидел жену его Киеу[107], покарал, а тех, кто был добр к ней, достойно вознаградил. И жизнь, мол, теперь пошла другая — никто не сидит у тебя на шее, и эти гады тэй не шляются больше по улицам… Разъезжай себе сколько хочешь.
Дядюшка Ты стал руководить Уличным комитетом, а потом до самой смерти работал в Комитете самообороны. На похоронах его были даже представители райкома.
* * *Из года в год в канун Дня провозглашения Республики, на каждой улице создавался оргкомитет, чтобы подготовить и провести этот большой праздник торжественно, весело и без происшествий. Но в этом году вода в Большой реке[108], несмотря на позднюю пору, держалась высоко, и потому жители города должны быть особенно бдительны. Прежде всего это касалось, конечно, ополченцев.
Дежурство Хая начиналось в одиннадцать вечера и кончалось в час ночи. Днем обычно дежурили женщины или пожилые мужчины.
Дежурство не сравнишь ни с каким другим делом. Едва повязав на руку красную повязку Комитета самообороны, Хай проникся совершенно особым чувством, он как бы реально ощутил ложившуюся на его плечи ответственность.
Влюбленные коты гонялись друг за дружкой по крышам. И Хай подумал: этак они перебьют немало черепицы; а теперь ведь самые дожди, и в домах потекут крыши. Вон там, за прикрытым окном, горит лампа. Чего это они жгут так поздно свет? Неужели ссорятся до полуночи? А может, в семье кто-нибудь заболел или собирается на вокзал? По неглубокой сточной канаве прошлепала, не торопясь, старая крыса. Ишь ты, и как только она уцелела после всех кампаний по борьбе с грызунами? Небось на старости лет поумнела? И тут в темноте со всех сторон зазвенели будильники, одни умолкали, и тотчас взахлеб начинали звонить другие. Пора собираться в ночную смену — здесь во многих домах жили рабочие с фабрики. Заскрипели двери, послышались прерываемые зевотой голоса не проснувшихся еще толком людей, гулкий стук деревянных сандалий, перезвон чашек, котелков и бутылок.
Створки запертых дверей печально темнели, словно глаза слепцов. Кто знает, спят ли там люди или просто не подают признаков жизни. Но вдруг ни с того ни с сего двери приоткрывали веки, красные от падавшего изнутри неяркого света, — и облик дома сразу преображался. Не так ли и люди — иной раз человек, добрый и приветливый по натуре, выглядит суровым и мрачным. В одном из окон яркий свет лампы окрасил багрянцем полотняную штору. Это счастливая комната: такая уж завелась верная примета — если под окном сложены аккуратной пирамидой дрова, значит, люди, живущие в доме, пекутся о своем очаге, о детишках, о семейном достатке.
Поздней ночью, когда на улице не появлялись больше прохожие, она казалась серьезнее и как бы задумчивее, чем днем. У нее была своя ночная жизнь. Дома в два и три этажа стояли, прислонясь друг к другу, и всюду, под каждой крышей, жили люди. Облик каждого дома был как бы приметой и памятью разных возрастов Ханоя. А привычки и вкусы живших в домах людей несли на себе отпечаток их переменчивой жизни и всей истории города.
Коренные горожане твердят в один голос: пусть жизнь кое в чем и оставляет еще желать лучшего, Ханой нынче такой город, где можно достойно жить и трудиться. Какую семью ни возьми — все взрослые работают. В часы пик — перед началом и после окончания рабочего дня — велосипеды катят по улицам рекой, кажется, весь город крутит педали. На перекрестках, случается, велосипедисты сталкиваются и даже падают, но в отличие от «доброго старого времени» дело теперь обходится без драк и скандалов.
«Да, — думал Хай, — как все меняется и не углядишь…» Ведь он вырос здесь, на этой улице. А сверстников его судьба увела отсюда в разные концы страны. Они разлетелись как птенцы из гнезда по небу, осененному знаменем Родины. Есть, правда, среди его одногодков и другие, похожие, скорее, на навозных мух, — вот вроде него, Хая. Да только мало их, можно по пальцам пересчитать, а если по-честному, на этой улице только он один такой и есть.
Здесь мысли Хая вдруг остановились с разбега, словно человек, застывший перед входом в зловонный и грязный проулок, не решаясь двинуться дальше…
Он принялся снова размышлять о своей улице. Но память упрямо возвращала его в детство с его радостями и печалями, с его неповторимыми волнениями. Хай увидал себя десятилетним мальчиком — почему-то от той поры самым ярким воспоминаньем остался длинный шест, стоявший в углу двора. На конце шеста торчали два железных крюка…
Вся улица от дома до школы была обсажена деревьями: тамариндами, фыонгами[109]… Хай с приятелями давали им разные имена в зависимости от того, на каком углу росло дерево и что прятали мальчишки в дупле. Каждое дерево служило им и складом продовольствия, и зоологическим садом, каждое было полезным и нужным. На первый взгляд деревья вроде все одинаковы: у любого есть ствол, ветви и зеленые листья. Но если приглядеться, среди зелени можно увидеть сухие ветви. Одни источил жучок, другие надломил ветер, третьи сами засохли, непонятно отчего. Ну, да как бы там ни было, а стоило Хаю с дружками увидеть сухую ветку, они тотчас волокли шест с крюками и, обломав сушняк, стягивали его на землю. Вот у них дома круглый год и не переводилось топливо для очага.
Многие из тогдашних его дружков сейчас на фронте. Одни вот недавно хвастал в письме: «Когда-то, в школе, — писал он, — я все жаловался на нашу математичку, одолела, мол, задачками. Теперь же, на войне, я понял, как нужна математика. Тот, кто в ней силен, быстрее рассчитает траекторию ракеты. Я ведь ракетчик. На марше мы несем ракеты и технику на своих плечах, но, как только встретимся с неприятелем, сразу ставим пусковое устройство, „угостим“ врага парочкой залпов, и, пожалуйста, путь свободен…» Может, он загнул, кто знает, но все равно это здорово: мужчина непременно должен быть солдатом…
Хай вдруг почувствовал прилив отваги, словно и сам был ракетчиком, а вовсе не «отсталым элементом», позорящим всю улицу. Мысли похожи на отражения в кривых зеркалах — одни веселые, другие мрачные. Сейчас Хай был весел: еще бы, ведь он обходил дозором улицу и казался себе пограничником, охраняющим покой родной земли.
Дойдя до перекрестка, патрульные — их было двое — разделились. Напарник Хая свернул в переулок, а сам он вышел на набережную. Они условились встретиться после обхода в Комитете. Хай окинул взглядом терявшуюся в темноте дамбу. Вдоль нее, словно светляки, мерцали электрические фонари. Влажные испарения, поднимавшиеся над рекой, окутывали их пеленою тумана. Город казался отсюда таинственным и незнакомым. Выемки в гребне дамбы, по которым раньше спускались к берегу пешеходные дороги, были заложены мешками с песком. Две женщины-ополченки с соседней улицы сидели на дамбе — лицом к притаившейся во мраке реке. Вода не была видна отсюда, но какое-то внутреннее чутье подсказывало людям, что она поднимается все выше и выше, как бы оттесняя нависшую над рекою ночь. Спина женщины в белом платье была перечеркнута висевшей на ремне винтовкой. Под деревьями коровы — наводнение прогнало их с затопленных луговых низин, — потряхивая ушами, жевали траву. Над самой рекой пролетел патрульный вертолет. Мерный рокот мотора заполнил тихое небо и молчаливые улицы.