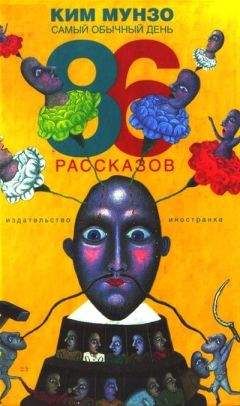Геннадий Головин - День рождения покойника
Много тут было всего…
Под надписью: «Однажды Антон Павлович заметил…» свисало что-то вроде бумажного свитка, на котором писали от руки. Жужиков разглядел лишь несколько строк: «…что ярко-красное солнце всходило на востоке…», «…что Анфиса с досадой села на стул…», «…что дороги бывают разные…»
Пред ликом Жужикова стояла в лафитничке полусгоревшая церковная свечечка. Должно быть, возжигали время от времени, и, должно быть, немало веселья творили при этом.
Восковые рыночные цветочки были возложены к портрету, букетики крашеного ковыля, надкусанный пряник, соленый огурец с воткнутой вилкой, конфета в фантике.
Под стеклянным, лабораторного вида колпаком лежал окурок. Рядом — чудовищного размера рваная галоша. Стоял надгрызенный граненый стакан. Все — с аккуратненько напечатанными и наклеенными «музейными» подписями, которые Антон Павлович даже и читать не стал, почувствовав, что его вдруг затошнило от… он даже не знал, как определить это злобно-насмешливое, безжалостное, бесстыдное, что творили тут над ним…
Он повернулся уходить. Скользнул взглядом по двум аккуратненьким девичьим коечкам, по телевизору с лежащей на нем гитарой, по книжным плотно набитым полкам, по нежно-голубенькому платьицу, висящему на плечиках на дверке шкафа. Повернулся и поспешно ушел, как сбежал.
Что он чувствовал?
Он чувствовал, что он — очень устал, и что ему — очень стыдно и тошно жить.
Стыд был унылый. Но странно, ему не только за себя было стыдно. С Жужиковым все было ясно. Ему и за Эльвиру было стыдно! Больше того — за весь как бы и род человеческий!
…В буфете автостанции он купил бутерброд с котлетой, вышел на хорошо пригретое деревянное крыльцо, сел на ступеньку и стал ждать. До автобуса в областной центр был час с лишним.
Грязно-молочная собака подковыляла на трех ногах, остановилась напротив и стала проницательно смотреть на Жужикова.
Он отломил кусок котлеты и бережно бросил собаке. Она рассеянно понюхала и снова стала смотреть.
Котлета на изломе была удивительного голубого цвета. Жужиков слегка посомневался и все же принялся жевать, подумав при этом что-то равнодушное, с интонаций «э-э… все равно…»
«Не переживай… — сказал себе Жужиков. — Все ведь правильно…»
«А я и не переживаю, — ответил Жужиков. — Чего переживать?»
Нежно-голубенькое легонькое платьице взволнованно затрепетало за низким некрашеным штакетником, на той стороне автобусного круга, в пыльном зеленом сквере.
Молодая женщина, торопясь, шла вдоль забора и озабоченно не спускала глаз с Жужикова. (Наверное, да, с Жужикова — оглянувшись, он никого больше не увидел рядом с собой.)
Штакетник закончился. Женщина на мгновение остановилась, все так же всматриваясь в Антона Павловича, и, заметно поколебавшись, пошла вдруг к нему через асфальтовый пустырь площади тревожными шагами человека, опаздывающего на помощь.
1988
АННА ПЕТРОВНА
Поздней осенью, почти уже зимой, вам, наверное, встречались в садах ли, в парке — эти мелкие розовато-молочные цветочки.
Грязноватенькие, с ветхо растрепанной розеточкой лепестков, аккуратненько обожженной по краям ржавчинкой первых заморозков, они в эту пору, конечно же, не цветут — одну только видимость сохраняют. Дремлют под грязной волглой листвой, под рыжей, цепкой, мертвой травой — сразу и не поймешь: то ли они живут еще, безымянные маргаритки эти, то ли давным-давно уже умерли, притаившись. Возьмешь их в руки — расползаются нежным жалостным прахом…
Ни умиления, ни отрады, даже и в осеннюю пору, не вызывают бедные эти цветы. Напротив — грубая печаль и даже досада постигает вас, когда их видишь: слишком уж злым забвением, едким сиротством, кладбищем убогим веют они.
Заметишь их, проходя мимо, и вдруг замечаешь: торопишься пройти мимо.
С такой вот божьей маргариточкой сравнил бы я и Анну Петровну, героиню этого рассказа. В сумеречной комнатенке огромного кирпичного угрюмого дома на Красной Пресне тихонько, терпеливо, потаенно и никчемно доживала она дни свои.
Анне Петровне шел девятый десяток лет, и изо всей родни, когда-то многочисленной, оставалась у нее одна только внучка — Марина, которую Анна Петровна недолюбливала, потому что выросла внучка человеком странным (хотя Анна Петровна и сама ее воспитывала, с четырех лет до первого замужества) — кустарно-ярко-рыжей, мужеподобной, спортивного вида бодрой стервой, озабоченной на всем белом свете лишь одной лишь своей персоной.
Именно Марине была обязана Анна Петровна тем обстоятельством, что на исходе лет оказалась она не в светлых своих двух комнатах на Большой Полянке, где прожила до этого лет сорок, а в этой девятиметровой, скверненькой, я бы сказал, достоевской комнатенке, которая более всего напоминала узкий, непомерно высокий ящик или, еще точнее, щель — двух метров в ширину и трех с половиной в высоту, — которая глядела долговязым, словно бы церковным, давно уже не мытым окном в заунывный асфальтовый тесный дворик, где в квадратиках окаменелой земли, забранной решетками, хирели обновляемые каждый год саженцы; где бродили возле пустой песочницы горемычные городские детишки, с вялой надеждой царапая асфальт разноцветными лопатками; где стояла на чурбанах забытая всеми бесколесная машина, разрушаясь день ото дня и покрываясь с каждым днем все более, казалось, яркими и торжествующими язвами ржавчины, и где с утра до вечера сидела на древних шатких ящичках возле шелудивой стены, исписанной слабоумными гадостями, кроткая, угнетенная многими печалями очередь в пункт приема стеклопосуды.
Невеселый, что уж и говорить, был вид из окошка.
Анна Петровна, впрочем, не много этим огорчалась. И не только потому, что на Большой Полянке тоже не ахти как смешно было во дворе. Просто, она уже была в том тихом, как бы полуобморочном возрасте жизни, когда вообще ничем — кроме, быть может, самочувствия — всерьез не огорчаются, а все слабенькие силы своего воображения тратят единственно на смиренное (и все же странное, зябкое!) занятие ожидания своего последнего дня на этой земле.
Года два-три назад она, наконец, поверила, что быть ей осталось уже совсем недолго, и с той поры каждую осень Анна Петровна искренне считала своей последней осенью (она почему-то уверена была, что непременно осенью, в самом начале зимы умрет), а в тот год, о котором наш рассказ, она уже почти наверняка чуяла близкую свою кончину, и потому высокое важное равнодушие надменной стеной уже почти совсем огораживало ее от окружающего мира.
…Здесь, за этой стеной, внутри, было очень тихо, очень покойно, в общем-то хорошо, хоть и печально, а жизнь, быстро и странно живо колготившаяся вокруг, колготилась где-то пообочь, — может быть, даже поверх ее и почти уже совсем никак не задевала воображения Анны Петровны. Ну, примерно так же, как совсем не задевали ее воображения мутно-серебристые, аквариумные шевеления теней в экране давным-давно оглохшего старенького телевизора, который она по рассеянности включала иногда: глядела на экран внимательно, виновато и неспокойно, силилась понять, но уже не могла понять, о чем они, эти люди, зачем…
Больше всего любила она теперь смотреть на очередь под окном.
Нежное, хоть и глухое, сочувствие вызывали в ней эти бедные люди: как они терпеливо и устало сидят целыми днями на ветхих шатких ящичках, как пересаживаются время от времени, будто по чьей-то команде, с одного ящичка на другой, как бережно, словно великую драгоценность, переставляют, пересаживаясь, и авоськи свои с пустосветящимися, ясноотмытыми бутылками, как глубоко опечалены они чем-то, эти люди, как покорны, казалось, как кротки.
Не сказать, что какой-то символ чудился ей в этой бесконечной каждодневной череде людей. Просто все, что она видела здесь, почему-то трогало ее. Она ведь тоже, в сущности, сидела в терпеливой черной очереди, а загадочное окошко, к которому покорно и заискивающе склонялись все эти люди, было и от нее уже совсем недалеко.
По вторникам, когда пункт не работал, и очереди, стало быть, не было, и одни только жалкие ящички косились возле опустелой стены, прикрытые кое-где газетным рваньем, — по вторникам Анна Петровна испытывала какой-то раздражающий недохват в жизни, досаду, скверный неуют, и она даже опасалась всерьез, что если умрет, то умрет непременно во вторник, потому что досуг ее ничем в этот день не занят, а душа, пребывая в праздности, особенно беззащитна и всему покорна.
Она была гордая женщина, никогда и ни о чем старалась не просить свою внучку, но однажды она все же не вытерпела: очень страдая и пряча при этом глаза, попросила, не может ли Марина, коли она все равно ее навещает, навещать, если можно, по вторникам. Та, разумеется, быстро и легко согласилась: