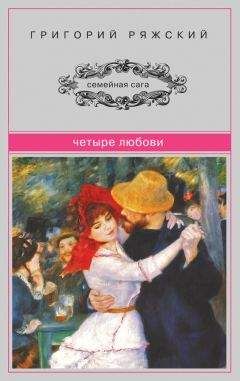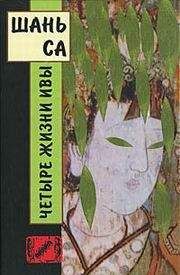Наталья Никишина - Женское счастье (сборник)
На работе она машинально выполняла редакционные задания, писала что-то о разводах и свадьбах, а про себя решала, что будет делать. По всему получалось, что выход может быть только один. А ее красивое, здоровое тело, словно понимая что-то, чего не понимала сама Катя, замирало в сонном покое и отказывалось подчиняться требованиям разума. Этому телу хотелось только принять горизонтальное положение и отключиться от всего в блаженном сне. Было невыносимо нести свое рациональное, жесткое решение в одиночку. Кате требовалось поговорить хоть с кем-то, и она рассказала новость Милочке.
Они сидели в парке на скамеечке. Тихо волновались под ветром кроны старинных лип, цвели на клумбах цветы, посвистывали птицы, пьющие воду из фонтана. Две женщины в белых платьях, словно на картине восемнадцатого века…
— Катюша, но это же здорово! — обрадовалась за подругу Милочка.
Катя молчала и вертела в руках сигарету. Закурила, но тут же затушила ее.
— Вот. И курить не могу. Тошнит.
— Нормально, Катя, потом пройдет. Не в смысле курения, курить придется бросить, конечно. Просто сначала немножко потошнит, а потом ничего.
— Ой, Милка, ну ты уникальный экземпляр! — разозлилась Катерина. — Если завтра конец света объявят, ты тоже скажешь: нормально, ничего страшного.
Милочка не обиделась, а рассудительно заявила:
— Конец света — это тоже начало. Нет, Катя, я не понимаю, что за паника? Это ведь так естественно: два человека любят друг друга, у них появляются дети. А все так удивляются, словно произошло нечто вопреки природе. Да не вопреки, а в соответствии с великим законом! Вот были цветы на ветвях, а теперь яблоки… — И Мила протянула Катерине огромное красное яблоко. Катя яблоко машинально взяла и стала грызть, но разговор не прекратила.
— Ты, Милочка, выходишь замуж за человека богатого. А у Мити, как и у меня, доходы сама знаешь какие. Я же должна за нас двоих теперь думать. У нас с ним выход один — спешно делать карьеру. А с ребенком все равно что работой заниматься.
…Вновь и вновь звучали их красивые голоса, сливаясь в невнятную мелодию. И если не слышать слов, то можно было подумать, что две красивые женщины лепечут о нарядных платьях и блестящих безделушках.
Милочкины философские сентенции Катерину не убедили. Она все решила для себя. За исключением одного пустяка. Она не знала, говорить ли о беременности Мите. Как он отреагирует, ей было понятно. Обрадуется, поднимет на руки. Все в лучших традициях отечественного кинематографа. Но что будет после, когда она скажет, что решила сделать аборт? Катя шла медленно, оттягивая ужасное объяснение, но уже возле дома взяла себя в руки. Открыв дверь в квартиру и не сказав даже «добрый вечер», она решительно произнесла:
— Митя, я завтра иду на аборт.
Митя, вышедший из кухни на звук открываемой двери, долго молчал, осмысливая Катины слова. Потом заговорил резким, неприятным голосом.
— Ты это здорово придумала, Катерина. Правильно, чего церемониться… Меня ведь спрашивать не надо. Я права голоса не имею. Кто я такой? Посторонний.
Катя расплакалась злыми, едкими слезами. Она знала, что разговор будет тяжелый, но не думала, что ей он окажется не по силам.
— Митя, не говори таких слов! Ты потом пожалеешь!
И дальше ссора покатилась лавиной, набирая скорость, еще более серьезная, оттого что велась она на приглушенных тонах, ровными, спокойными голосами. Катя взывала к Митиному разуму, находила бесспорные аргументы. Она приводила в пример женщин просвещенного цивилизованного Запада, которые сначала думают о карьере, а потом о детях.
— Они же все в сорок рожают — и ничего, — твердила Катерина.
Митя вскипал холодным бешенством:
— Вот именно что ничего! Ты говоришь только о себе, а почему ты ничего не скажешь о ребенке, об этом ребенке, Катя!
Но Катерина переводила разговор на другое. Она вновь и вновь ссылалась на знакомых и родных, которые упустили возможность изменить свою жизнь, погрязли в быте и служили ежедневно ради хлеба насущного, становясь все приземленнее и мелочнее. А Митя не понимал ее и все повторял про вечное счастье просто жить, про обыкновенные, но единственно важные вещи, которые Катя не способна понять… Разговор завел их далеко. Так далеко, что вдруг стало ясно, насколько по-разному они представляли себе совместную жизнь. И в какую-то ознобную секунду Кате подумалось, что произошла громадная ошибка, что они не любят друг друга. И тут, когда они замолчали, глядя в разные стороны и по-прежнему сидя за столом, на котором стояли розы, произошло самое невыносимое… Митя заплакал. Это было невероятно. Это было чудовищно. Катя оцепенела и слушала, как он бормочет:
— Сын. Я знаю, это будет сын…
Сначала она почти кинулась к нему, чтобы прижать к себе, но тут же опомнилась, поняла: если сейчас подойдет к нему, то сдастся и отменит свое решение. Она сидела молча, пока он не встал и не ушел на балкон. А потом они впервые лежали в одной постели, не обнимая друг друга, и запах роз напрасно витал в темной комнате…
На рассвете Катя проснулась. Она помнила, что снилась ей мама, но о чем был сон — забыла. Утренние смутные и неконтролируемые мысли вызвали в памяти давний разговор с матерью. Это было, кажется, с полгода назад, когда Катя приехала в гости к своим, в их глухой провинциальный угол. Городишко, особенно неприглядный ранней весной, был скучен. Катя отбывала гостевание как повинность. Но родители радовались и все норовили показать ее знакомым. Дочь — столичная журналистка, даже по центральному телевидению ее показывали, ну как же не похвастаться! После очередного прихода гостей мама устало сидела в кухне, пока Катя мыла посуду, и вдруг начала говорить об их с папой молодости, стройотряде, где они познакомились, и о предутренней степи, где они любили друг друга… Катя вспомнила, как мама, молодо засмеявшись своим мыслям, сказала: «А знаешь, Катька, если бы не змея, ты могла бы и не родиться…» И рассказала, что на рассвете, в очень жаркий момент их объятий, она вдруг увидела, что совсем рядом с ними лежит змея. И, завороженно глядя на степную гадюку, пропустила тот момент, когда нужно было сказать «нет». Катерина, выслушав семейное предание, тогда ужасно развеселилась и констатировала: «Оттого у меня такой змеючий характер!» Но сейчас ей было не смешно, а странно: ее, Катерины, могло не быть на свете, ее глаза, и волосы, и мысли — случайность… Она вздрогнула и потрясла головой, гоня воспоминания и сопоставления. Посмотрела на часы и пошла заваривать чай. В кухне Катя включила маленький телевизор. В утренних новостях привычно вещали про бомбежки и военные конфликты, безработицу и заказные убийства. Катерина тоскливо усмехнулась: мир подтверждал ее правоту. Митя остался дома, и они больше не разговаривали. Катя побежала на планерку, а у него был выходной.
С работы Катя позвонила врачу. Ирина Степановна консультировала в их газете рубрику «Женское здоровье», а в ее клинике работал кабинет вакуумрегуляции. Ирина Степановна сказала, что можно подъезжать, и Катя поехала в клинику. Все выглядело не так страшно, как ей представлялось. Было не по-больничному уютно. Пока соблюдали необходимые формальности, записывали что-то в карточку, Катя отрешенно глядела в окно на ветки деревьев, видневшиеся за полосками жалюзи. Машинально отвечая на вопросы медсестры, она совсем успокоилась. Потом Катя переоделась, и ее провели в палату. Почти сразу за ней пришла Ирина Степановна и сказала:
— Потом часика три полежишь и — домой. За тобой муж приедет?
Катерина ответила, что у мужа срочная работа. На что врач неодобрительно заметила, что у мужчин нервы железобетонные и им не понять, что из-за них женщины терпят.
— Хотя теперь это — ерунда. Вот раньше, в наше время, без обезболивания, на одном терпении… А сейчас — вакуум! — оптимистично заключила она и повела Катю в кабинет. Там она велела ей сесть на минуточку и принялась чем-то греметь и что-то говорить сестре. «Вакуум… — повторяла про себя Катя, — вакуум…» И вдруг осознала, что сейчас, когда все решено и идет уже независимо от ее воли, она может наконец подумать о том, о чем запрещала себе думать эти недели. Она ясно и отчетливо представила себе мальчика с темными кудрявыми волосами, с Митиным взглядом. Маленького мальчика, лепечущего что-то детское, неразборчивое. Его крошечные розовые ступни со сморщенной младенческой кожицей, его запах, его два первых зуба, его смех… Она восхищенно и сладостно любовалась им, словно он и впрямь уже существовал, и лепетал, и смеялся… И все оборвалось внутри нее от жалости и ужаса.
— Все готово, Катя, иди на кресло, — позвала Ирина Степановна.
Катя судорожно вздохнула и проговорила невнятно:
— Я передумала. Я не буду этого делать.
Врач поняла ее сразу и просияла:
— Катечка, ты — молодец! Это ты замечательно придумала. Хотя это первый случай в моей практике, что вот так, в последний момент…