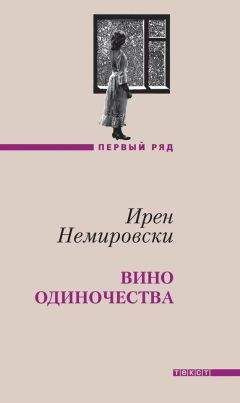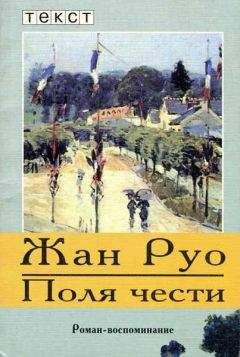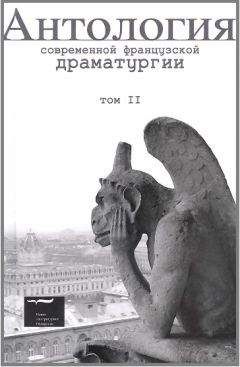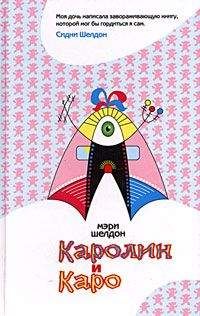Спи, мой мальчик - Валантини Каролин
Она принялась смотреть на торопливо шагающих людей. Их поток был непрерывным. Куда они направляются? Знают ли они, что никуда не придут? Что все их усилия жить, все их печали и радости ведут к одному и тому же — к могиле? Как ей вернуться, спрашивала она себя, как снова делать то, что делала прежде, подтыкать одеяло Ноэми, ложиться рядом с Пьером, когда горизонт разрушен, когда дом опустел? Она вцепилась в спинку стула, ухватилась взглядом за облупившуюся картину на стене, чтобы справиться с головокружением. Она больше не хотела шевелиться. Она хотела бы погрузиться в подземелье мира и закопаться там. Однако что-то приводило ее в движение. Мадлен встала и направилась к выходу. В длинном коридоре кто-то пел. Жерло эскалаторов поглотило ее вместе с несколькими кубометрами безымянной толпы. Мадлен вынула мобильный. Погруженная в свои раздумья (а может, дело было только в том, что она спустилась слишком глубоко под землю), она не слышала недавнего звонка. Он был от Жюльет.
Дрожащий голос девушки набормотал на автоответчик какие-то несвязные фразы. Жюльет запиналась. Мадлен не все поняла. Жюльет рассказывала о некой ферме у реки, расположенной в лесу недалеко от университета. И о преподавателе, на курсе которого Алексис очень усердно занимался. Это было правдой. Алексис воспылал интересом к геополитике и социальной экономике; последние несколько месяцев своей жизни, приезжая домой, он говорил исключительно об этом. Сообщение Жюльет заканчивалось всхлипом и долгим молчанием. Мадлен сохранила аудиозапись и убрала телефон в карман. Она переслушает сообщение позже. Она прищурила глаза на полуденном солнце и двинулась в сторону общежития, в котором еще недавно жил Алексис.
— Алессис…
Тоска отпускает его сердце.
— Алессис, ты слышишь меня?
Уступает место родному и знакомому.
— Алессис, ты должен вернуться домой.
Ноэми. Его сестра. Его маленькая крошка-сестренка. Что она тут делает? Похоже, на этот раз с ней никого нет.
Она садится на корточки, кладет на камни три маргаритки.
— Ты должен возвратиться домой.
Не могу, булочка моя. Я стиснут здесь. А что ты тут делаешь совсем одна? Мама не с тобой?
— Нет…
И как же ты пришла?
— Вылезла через дыру в школьном заборе. А потом побежала.
Воспитательницы не видели, как ты уходишь?
— Не знаю. Мы с моей подругой Эльзой играли в прятки.
А папа? Он не ждет тебя возле калитки?
— Папа сердится, что ты умер.
Что-что? Это как так?
— Он говорит, что ты умер себя сам.
Ох… Ох, как бы ему хотелось разворошить землю, избавиться от этой проблемы, которую являет собой смерть и которая только ухудшается день ото Дня, присесть рядом с сестренкой, прижать ее к себе, сказать ей, что все это вздор, химера, глупые фантазии глупых родителей, не имеющие ничего общего с настоящей жизнью — жизнью принцесс, звезд и маргариток; что завтра он поведет ее на ярмарку есть пончики, а потом они будут руками красить стены в ее комнате и с босыми ногами спускаться с горы на тобоггане, который едет отчаянно быстро, и что, конечно же, он никогда не поступил бы так, не умер бы себя сам… Разумеется, булочка моя, о таких безумствах лучше никому не рассказывать, понимаешь? Разумеется, нет, не сам, но… впрочем… откуда такая уверенность?
Возвращайся-ка в садик, пока воспитательница не хватилась тебя. Давай-давай…
Ноэми послушно уходит, глядя себе под ноги; она не бежит и не торопится, она думает о своем старшем брате, стиснутом под землей, без папы, без мамы, без телевизора, без кровати, без еды. Девочка вздыхает: она все же рада, что это ему, а не ей приходится спать на улице, но она одергивает себя и убирает с лица эту простодушную улыбку, потому что… что он сказал бы, если бы узнал, какие мысли бродят в ее голове?
Мадлен стояла под окнами общежития, в котором находилась комната Алексиса. Ключ пока хранился у нее. Они с Пьером приезжали сюда после похорон забрать вещи, скопившиеся за пару лет. Еще надо было вернуть на общую кухню тарелки и столовые приборы, но у Мадлен не нашлось сил на то, чтобы рассортировать их, и она просто оставила посуду бывшим соседям сына. И вот сегодня она вернулась.
Она села на бордюрный пандус для инвалидных колясок, ведущий к входной двери. Университетский городок был современным, хорошо оснащенным, либеральным. Алексис любил его за свободомыслие и простоту нравов. Вдоль холма по ту сторону небольшой площади безмятежно текла река. Мадлен подставила затылок солнцу и ветру, заставила себя вдохнуть летний воздух. В этой попытке раствориться в мире не было ничего естественного. Одеревенелость, которая сковала Мадлен, мешала размышлять. Она принялась ждать.
Часам к четырем Мадлен почувствовала, что проголодалась. Но ей не хотелось покидать свой наблюдательный пост, и она продолжала вглядываться в бурлящую вокруг жизнь в надежде выискать в царящей здесь атмосфере какие-нибудь подсказки. Студенты сновали туда-сюда, поодиночке и компаниями, прижимая к себе ноутбуки и книги. Одни громко смеялись, другие спешили куда-то с озабоченными лицами. Сейчас, в конце учебного года, студенты переполнялись интеллектуальным возбуждением и устремляли все свои нейроны в сторону успеха, понимая в глубине души, что ни один экзамен не стоит таких усилий… Мадлен увидела, как к подъезду вальяжно приближается сосед Алексиса, иногда приезжавший к ним домой на выходные. Мартен? Венсан? Его имя вылетело у нее из головы — у нее, которая каждый год удерживала в памяти имена стольких ребят в школе. Это он устроил что-то вроде поминок по Алексису возле злополучной реки спустя несколько дней после похорон. Это он собрал дюжину людей на берегу, там, где река отдаляется от университетского городка и убегает к лесу. Это он произнес небольшую речь и пробренчал несколько аккордов на гитаре, заранее извинившись за свои скромные, по сравнению с покойным виолончелистом Алексисом, музыкальные способности. Мадлен вспомнила, что в тот день она почти не чувствовала, как ноги касаются земли.
Их взгляды встретились.
— Мадам Виньо, — приветствовал ее будущий философ, чей внешний вид полностью соответствовал образу студента этого направления: волосы, собранные на шее в хвостик, мотаются по воротнику кожаной куртки, на щеках темнеет трехдневная щетина. — Как поживаете?
— Неплохо, Лукас, спасибо (точно, Лукас — вот как его зовут). Ты не уделишь мне несколько минут?
Другой на его месте срочно придумал бы какую-нибудь увертку, лишь бы не разговаривать с матерью своего приятеля, покончившего жизнь самоубийством, но Лукас был не таким. Он не отгораживался от печальных событий, считал смерть частью жизни во всем ее многообразии и не собирался сходить с ума по поводу чьей-либо кончины.
— Уделю, разумеется, — отозвался Лукас с безмятежностью, пребывать в которой ему помогала не только собственная жизненная философия, но и индийская конопля. — Идемте, я знаю место, где мы можем поговорить.
Они зашагали по пешеходным улочкам вдоль учебных корпусов. За столиками на летних террасах кафе сидело много народу. Лукас привел Мадлен во дворик, окруженный платанами и наполненный ритмами музыки в стиле Боба Марли. Заказал два бокала пино-нуар, не спрашивая Мадлен, чего хотела бы она. Мадлен заметила, что студенты за соседними столиками поглядывают на нее и шушукаются. Сейчас гибель Алексиса была на устах у каждого. Если при жизни сын Мадлен обзавелся здесь лишь несколькими товарищами, то его смерть пробудила к нему интерес всех универсантов.
— Расскажи мне о моем сыне.
— Хм, знаете, в последние дни я что-то его не видел.
В ожидании реакции Мадлен Лукас уставился на нее, приподняв бровь. Молодой человек позволил себе явно неуместную шутку.
— Не умничай, Лукас.
— Ну-у, это я так, чтобы вы посмеялись, мадам Винъо, расслабьтесь.