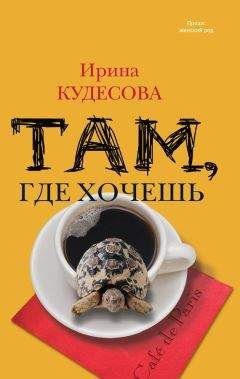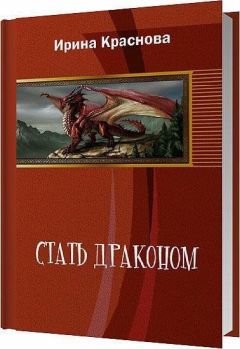Однажды осмелиться… - Кудесова Ирина Александровна
— А-а… — Кэтрин смотрела в окно с каким-то едва ли не остервенением. Детей увели, теперь там было пусто. — А вот у меня… — злобно так зырканула на Оленьку и осеклась. «Ненормальная», — подумала Оленька.
И вдруг все прошло. Лицо у Кэтрин сделалось спокойным, даже немного извиняющимся. В голосе — такая мягкая усмешка:
— Пойдемте поработаем, Оля. Не мучайтесь. На верблюда он похож.
И тут Оленьку смех разобрал, ведь верно, верно! Верблюд и есть! Кэтрин подождала, пока Оленька отсмеется, и все так же мягко добавила:
— Да. Так что у нас здесь зоопарк. Директор — верблюд, менеджер — хомяк, а все прочие — тут ведь одни тетки — глупые гусыни. Включая меня. Пойдемте.
20
Не обманула Кэтрин. Оленька вспомнила, уже когда засыпала, — такая вспышка в памяти: жжух! — и точно, лето, она, маленькая, стоит со сладким малиновым петушком в кулаке, а над головой — морда качается, рыжая губастая морда, частокол зубов, и мягкие разболтанные губы нехотя движутся туда-сюда. «Олюшка, пошли», — отец тянет за руку, Оленька сопротивляется. Мама смеется: «Вот как сейчас плюнет!» Ленивые губы шаркают друг о друга, над губами — большой шоколадный глаз, смотрит выпукло, с высоты. Над глазом — шоколадные же — ресницы. Все говорили, что у Оленьки ресницы длинные, но чтобы такое… Если верблюд глаз зажмурит (а в саду все так делают: реснички видать — у тебя девочка родится, а нет — мальчик), ресницы у него на полмизинца высунутся. «Значит, девочка будет у верблюда». С такими глазами, с такими губами, с такими ресницами разве может он — плюнуть?
Директор тоже не мог. Это выяснилось буквально на следующий день.
Кэтрин явилась в половине двенадцатого и заявила: «Уээл, сегодня идем к Антону Васильичу. Сдаваться». Оленька так и обмерла: ну вот тебе и Кэтрин-шметрин, доверишься человеку, а тот даже и не скрывает, что сдаст тебя со всеми потрохами.
— Зачем?
Кэтрин шмякнула на стол слоновый очечник, застегнула котлетный дух, высунувший уши из сумки (красный кожзаменитель, жуть):
— А затем, что лучшая защита — это нападение. Ни к чему директору получать информацию из вторых рук. А ведь донесут.
— Неужели и правда видно? — Оленька встала, одернула свитер.
— Скоро будет. И тогда нам капут.
Оленька смотрела на Кэтрин и ничего не понимала. Той было явно что-то нужно от нее, а иначе откуда это поспешное «мы»? Ей-то, Кэтрин, какой капут?
— Уээл, идем в три часа. После обеда он особенно благостный.
Оленька вздохнула: пожалуй, тут Кэтрин была права — надо покаяться раньше, чем на то вынудят обстоятельства. Да, но как сказать? Вот так войти и брякнуть: «Антон Васильевич, я на третьем месяце, когда к вам устраивалась, была в курсе. Извините. Можно идти?» Кэтрин напялила очищи и добавила:
— Скажем, что у тебя шесть недель, ты только узнала. Мне он поверит. А уж потом подтасуем как-нибудь.
Да, Оленьке он, конечно, не поверил бы, при всем своем лопуховстве. А Кэтрин поверит.
— Я никогда не вру, айм дэсперетли онист, и он это знает.
Дэсперетли онист. Стоит ли начинать.
— Но ложь во спасение — это не ложь, а средство выживания.
21
Ровно в три поднялись и гуськом двинулись в дирекцию: впереди гусыня, позади гусенок.
«На месте?» — Кэтрин кивнула на неплотно прикрытую дверь (вокруг ручки — грязное окружье). Секретарша медленно встала, прошла к принтеру, взяла с него пачку листов:
— Ваше. У себя.
Кэтрин молча цапнула листы (на днях возмущалась: я потом еще и выверять должна!). Стукнула костяшкой пальца в дверь: «Антон Васильич, к тебе можно?» Оленька кинула взгляд на секретаршу и отправилась следом за Кэтрин.
Директор растерялся пуще Оленьки. Он, похоже, относился к тому разряду мужчин, для которых все «женское» — темный лес, куда лучше не забредать, еще ноги переломаешь/ют.
— Да, конечно, конечно. Понимаю…
Он ничего не понимал, кроме одного: скоро снова придется искать корректора, Хомяков заявит, что ставку не поднимет, а на такие деньги кто пойдет. Вот подкинуло Провидение Олю эту, но бог дал, бог и взял. Разве что какую пенсионерку заловить. Нет покоя… И тут Кэтрин объявила:
— Уээл, я сама займусь поиском корректора. У меня одна просьба только, Антон Васильич. Ты до времени Хомякову не говори. Ну знаешь же ведь…
Директор знал. И потому обещался молчать, как дохлый карп.
22
В тот же день Кэтрин набросала текстик и долго рылась в ящике стола, пока не нашла пожелтевший бланк газеты бесплатных объявлений. (К Интернету у нее доверия не было.) Анонс вещал: с марта открывается вакансия в быстро развивающемся Издательстве. Молодые специалисты приветствуются.
— Старичью просьба не беспокоиться.
— Кэтрин! Ты так написала?
— Это подтекст. Зачем мне клюшка за столом напротив весь день?
Оленьке смешно стало. А то Кэтрин сама не клюшка. Хотя… нет, конечно, нет.
Только с виду.
Телефон Кэтрин вписала свой домашний, поскольку над рабочим покачивались длинные и вострые уши.
«Звонить с 9.30 до 10.30 и с 19.30 до 22.00». Потом папа ложится спать.
— Будем отлавливать студентов — вечерников. Они защищаются в феврале, самое время. Тебе же рожать в апреле?
Оленька кивнула. Ей хотелось сделать для Кэтрин что-то хорошее.
23
Теперь каждое утро совершалось ритуальное действо. Оленька узнавала о появлении Кэтрин по приближающемуся позвякиванию в коридоре: та вышагивала, как солдат на плацу, ритмично шаркая рукой по карману плаща, где, видимо, лежала увесистая связка ключей. (Плащ затягивался поясом безобразно туго, превращая силуэт хозяйки в две пригнанные друг к другу чаши — одна стоймя, другая книзу, как кринолин.) Пока Кэтрин опустошала красную суму, Оленька смотрела на нее вопрошающе. «Ну?» — не выдерживала. Кэтрин изображала, что не понимает, о чем речь, потом махала рукой: «А, нет, никто не звонил».
Иногда Оленька спрашивать не решалась: Кэтрин являлась в мрачном расположении духа и молча усаживалась за свой стол, а то и вовсе хватала сигарету и выходила, не пригласив Оленьку. Видимо, дома с утра пораньше неприятности. Оленька делала вид, что ничего не замечает, а спустя час-другой Кэтрин обращалась к ней сама, как ни в чем не бывало, во вполне сносном настроении.
За час до ухода, около пяти, Кэтрин взяла манеру затевать «чай». К чаю неизменно прилагались сухари. Сухари с маком, сухари с изюмом, просто сухари. Оленька всякий раз деликатно съедала по одному и в первый же выходной попросила Володика, чтобы тот в своем вояже по магазинам не забыл прикупить печенья и конфет. Володик записал на бумажку и не забыл.
За «чаем» велись беседы. Говорили обо всем, что в голову приходило, да и вообще Кэтрин было что рассказать. Отдельной темой шли «ляпы» Бротигана.
А один раз Кэтрин будто невзначай спросила: «Так тебе… тебе понравилось A Farewell to Arms?» Впервые Кэтрин заговорила об этой книге (которую Оленька, кстати, таскала в сумке, все собираясь почитать в дороге рассказы).
— Понравилось?.. Не знаю, кажется, мне этого читать не стоило.
Кэтрин кивнула:
— Да. В твоем положении… Но сейчас от родов не умирают. — И зачем-то добавила: — При всем желании.
Оленька промолчала. Она сидела напротив Кэтрин, в круге настольной лампы стояли две чашки с чаем, похожий на спущенные штаны полиэтиленовый мешок, из которого глазели изюминками сухари, лежала горстка конфет «Причуда» и нераспечатанная пачка печенья. Было тихо и уютно. И совсем не хотелось рассказывать про дождь, который лупил в книге по оконным стеклам, а на самом деле — ей по сердцу, про страх перед ним, про Вату, зависающую над землей перед его приходом, и о том, что душно ей от этого, и еще душно оттого, что загнана в угол, что не хотела ребенка так рано, что муж слишком близко садится на диване, что она чувствует себя неблагодарной свиньей, но ей не надо столько близости, потому что «вместе» — это рядом, но не вплотную, как умеют ее родители… И когда голос Володика в телефоне сообщил: «Нас отпустили пораньше», она обрадовалась: «Заходи сейчас». Предложила Кэтрин подбросить ее до метро, но та отказалась.