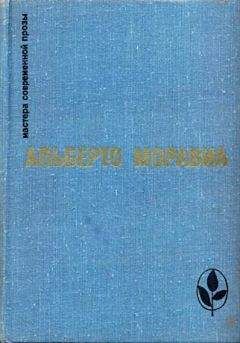Альберто Моравиа - Римлянка
Анархическое бунтарство, свойственное многим героиням сборника «Boh», писателем не только дегероизировано — оно дается как извращенное проявление довольно-таки зловещего буржуазного конформизма. Мещанская ярость, автоматизированная и соответственным образом направленная, может снова представить для всех нас вполне реальную угрозу. Моравиа, который живет в стране, где правый экстремизм усиливается, спекулируя на вполне респектабельной игре буржуазной интеллигенции в маоизм и левую фразу, это известно лучше, чем кому бы то ни было. «Неприятные» притчи «Boh» вызывают не только чувство омерзения к так называемому буржуазному благополучию, но и заставляют задуматься о завтрашнем дне всего человечества. Мастером это тоже предусмотрено. Несмотря на весь свой скептицизм, Альберто Моравиа остался непримиримым антифашистом.
Р. ХлодовскийАльберто Моравиа
РИМЛЯНКА
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
К шестнадцати годам я стала настоящей красавицей. Лицо у меня было правильной овальной формы, оно чуть сужалось к вискам и слегка расширялось книзу, глаза — миндалевидные, большие и лучистые, линия лба плавно переходила в прямой нос, а крупный рот с красиво очерченными розовыми и пухлыми губами обнажал в улыбке ровные ослепительно-бе-лые зубы. Мама говорила, что я вылитая Мадонна. А мне казалось, что я похожа на одну популярную в то время киноактрису, и поэтому стала причесываться так же, как она. Мама говорила, что если лицо у меня красивое, то фигура во сто крат лучше. Другой такой фигуры, говорила она, во всем Риме не сыщешь. Но тогда я еще не придавала этому большого значения: мне казалось, что важно иметь красивое лицо; но теперь могу подтвердить: мама была права. У меня были сильные прямые ноги, полные бедра, ровная спина, узкая талия и широкие плечи. Живот у меня всегда чуть-чуть выдавался вперед, а пупка почти совсем не было видно, так как он утопал в мышцах живота, но мама говорила, что это как раз и красиво, потому что живот у женщины должен быть выпуклый, а не плоский, как модно сейчас. Грудь у меня тоже была полная, но упругая и высокая, так что я могла обходиться без лифчика. Когда же я жаловалась, что грудь у меня слишком большая, мама утверждала, что это как раз хорошо, а что за грудь у теперешних женщин: смотреть не на что! Обнаженная, как я заметила позже, я выглядела высокой и полной, как статуя, но в платье казалась хрупкой девочкой; никто и не подумал бы, что я так хорошо сложена. Как мне объяснил потом художник, которому я начала позировать, все зависело от пропорций.
Художника нашла мама: она до того, как вышла замуж и стала белошвейкой, была натурщицей. Этот художник заказал ей сорочки, и мама, вспомнив о своем прежнем занятии, предложила ему меня в натурщицы. В первый раз, когда я отправилась к художнику, мама решила проводить меня, хотя я и твердила, что прекрасно могу дойти одна. Я испытывала неловкость, пожалуй, не потому, что впервые в жизни мне придется раздеться перед мужчиной, а просто боялась, что мама начнет расписывать мою красоту, чтоб уговорить художника взять меня на работу. Так оно и вышло. После того как мама помогла мне раздеться и вытолкнула на середину комнаты, она с жаром принялась меня расхваливать:
— Вы только посмотрите, какая грудь, какие бедра, посмотрите, какие ноги… где вы найдете такую грудь, такие ноги и бедра?
При этом она ощупывала меня, как барышники ощупывают и расхваливают на рынке скотину, надеясь завлечь покупателя. Художник улыбался, а я сгорала со стыда и дрожала от холода — дело было зимой. Но я понимала, что мама мне зла не желает, она просто гордится моей красотой: ведь это она родила меня, и своей красотой я обязана только ей. Художник, должно быть, тоже понял материнские чувства, он смеялся беззлобно и от души, так что я сразу же почувствовала себя свободнее и, преодолев робость, приблизилась на цыпочках к печке, чтобы хоть немного согреться. Художник выглядел лет на сорок. Это был полный мужчина, с виду веселый и уравновешенный. Я сознавала, что он смотрит на меня без всякого вожделения, как на вещь, и успокоилась. Позднее, когда мы познакомились ближе, он стал относиться ко мне почтительно и любезно, видел во мне уже не вещь, а человека. Я сразу же прониклась к нему симпатией и, пожалуй, влюбилась бы в него из чувства благодарности, только за то, что он был так любезен и мил со мной. Но он никогда слишком не откровенничал и смотрел на меня только как художник, а не как мужчина, и все время, пока я ему позировала, мы держались друг с другом вежливо и сдержанно, как и в первый день знакомства.
Когда мама перестала расхваливать меня, художник молча подошел к стулу, на котором лежала куча каких-то папок, и, порывшись в них, вытащил цветную репродукцию. Показав ее маме, он тихо сказал:
— Вот твоя дочь.
Я отошла от печки, чтобы тоже взглянуть на картинку. На ней была изображена нагая женщина, возлежащая на богато убранном ложе. Позади него спускался бархатный полог, и в его складках парили два младенца с крылышками на манер ангелов Женщина действительно оказалась похожей на меня. Но только, хотя она и была голая, судя по этим покрывалам и по кольцам, которыми были унизаны ее пальцы, было ясно, что она — либо королева, либо еще какая-то важная персона, а я — всего-навсего бедная девушка. Мама сначала не поняла, в чем дело, и недоверчиво разглядывала картинку. Потом вдруг заметила сходство и взволнованно произнесла:
— Верно, верно… похожа, видите, я правду говорила… но кто же это?
— Даная, — с улыбкой ответил художник.
— А кто она, эта Даная?
— Даная — языческая богиня.
Мама надеялась услышать имя живого, реального человека, а потому растерялась и, желая скрыть свое замешательство, принялась объяснять мне, что я должна позировать так, как прикажет художник. Скажем, лежа, как эта женщина на картинке, или же стоя, или сидя, и не шевелиться, пока он будет рисовать. Художник пошутил, что мама в этом деле разбирается лучше него, и мама, польщенная его словами, тотчас принялась рассказывать, как когда-то она сама позировала и весь Рим знал ее как одну из самых красивых натурщиц. И про то, какую ошибку совершила она, выйдя замуж и бросив эту профессию. Тем временем художник заставил меня лечь на софу, стоящую в глубине комнаты, и сам согнул, как нужно, мои руки и ноги, но проделал все это с задумчивой и рассеянной мягкостью, едва касаясь моего тела, будто он уже раньше видел меня такой, какой хотел изобразить. Потом он начал делать первые наброски на холсте, укрепленном на мольберте, а мама все еще продолжала болтать.