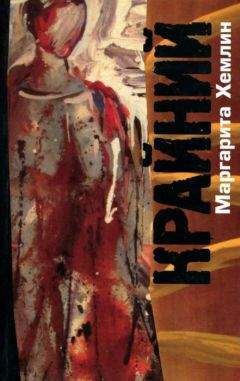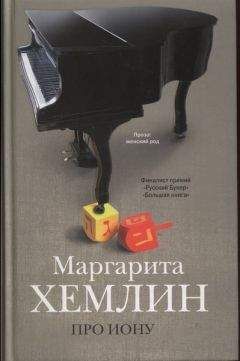Маргарита Хемлин - Дознаватель
— Он не мой! — Евсей аж побагровел.
Я невозмутимо продолжал мысль:
— Агитатор — это для него слишком жирно будет. Агитатор — за будущее. А Табачник — за ничего.
Евсей неопределенно кивнул.
— И что, хаты у него своей нету? По людям живет?
— Есть у него хата. Говорят, в Остре. И не хата, а землянка. Он кому-то заявлял, что в Чернигове будет обретаться по погоде, до зимы. А потом в Остер. Носит таких земля…
Я перевел на другое.
— За Довидом Сергеевичем смотри. Говорит он много.
Я нарочно Сергеевичем назвал, чтоб Евсей понял серьезность предупреждения.
Нужно ехать в Остер. И Воробейчик оттуда, и Табачник.
Заходить надо издалека. Первый закон следствия. Я хоть и без специального образования, но понимал суть. Война и разведка научили.
Но конец июля, время жаркое. Поздние гулянья молодежи, танцы на Кордовке, а вокруг там кусты непролазные, располагающая темнота. Случались недоразумения определенного порядка.
Потом — люди стали жить лучше. Выпьют сверх меры, поспорят, подерутся. Чаще всего внутри семьи, родственников и друзей, но это все равно. Чуть что — милиция. Причем плачут, чтоб никого не забирали. А работникам органов надо и в отпуск, и так далее.
Разворачивалось следующее.
Временами я негласно наведывался на улицу Клары Цеткин и заставал там закрытые ставни днем и ночью.
Систематически гулять в том месте не представлялось возможным из-за оперативной осторожности. Расспрашивать соседей — нецелесообразно по той же причине. Выяснять в паспортном столе, по домовой книге? Что выяснять, если полгода со дня смерти Лилии Воробейчик не прошло и в наследство никто вступить не мог по закону? Не про кого выяснять. Есть что. А не про кого. Формально, конечно. По сути — я б выяснил. Если б официально. Но тут — дело моей тайной совести и чести.
По невольным рассказам Евсея я находился в курсе деятельности Табачника.
Дурковатый старик как-то зашел ближе к осени к Гутиным. И мало что зашел, так прямо под ручку с Довидом.
Евсея сразу отсекли, позвали Бэлку за собой в сарайчик на дворе и там шептались.
Евсей хотел проследить-послушать, но дети удержали своими приставаниями.
В конце августа Любочка, ввиду приближения холодов, выразила желание пошить себе новое платье.
Для наглядности примерила старое — то, что я по памяти считал вполне хорошим, — и говорит:
— Я тут случайно Лаевскую Полину Львовну встретила на базаре. То-сё, в общем, она мне сказала, что за полцены пошьет. Я, конечно, наотрез отказалась, но она заверила, что только из-за уважения к тебе. Мол, Лилечка Воробейчик была ей подруга и даже как сестра, а раз ты убийцу обнаружил, так она тебе по гроб благодарна и в знак признательности даст мне скидку. Прямо слезы у нее в глазах стояли, умоляла меня ей сделать одолжение. Представляешь, одолжение! Я! Ей!
Я не торопился с приговором ситуации.
— Ну? И что дальше.
— Так дальше я с тобой советуюсь. Про Лаевскую говорят, что она слишком жадная, а она вот как может. Ты считаешь, Миша, от чистого сердца? — Ответа моего Люба не дождалась, сама пришла к заключению: — От чистого, ясно. Со смертью не шутят.
Я сказал:
— При чем смерть?
Люба ответила:
— Ну, я для сравнения. Если просто, так человек может и неискренность проявить. А если в смерть, тогда язык не повернется. Может, согласиться? На скидку? Шить толком не у кого.
Я пожал плечами. Хоть имел в виду совсем другое. Не надо тебе, Любочка, видеться с Лаевской. Ни шить, ни скидать цену, ничего тебе с ней иметь не надо.
Но сказал:
— Шей. Жизнь налаживается. Нечего жидиться. — Выскочило плохое слово. Ну, не плохое — не советское, а так, слово как слово, но я запнулся. — Нечего экономить на копейках. Надо, чтоб не стыдно было перед людьми. Ты красавица. Это уродине еще можно в обносках. А тебе — нельзя.
Люба просияла. Кинулась к шифоньеру, выдернула с-под простыней отрезик бутылочного цвета.
Показывает мне в нос:
— Смотри. Я давно купила. — Развернула, покрутила туда-сюда шиворот-навыворот. — Шерсть. На базаре. Материя довоенная. Или трофейная. Недорого. А если еще скидка — тогда совсем почти даром.
Я для ее удовольствия пощупал материю. Хотел даже погладить, но понял, что не надо. Руки дрожали.
— Хорошая. Ноская. И не маркая.
Люба пошла к Лаевской и принесла оттуда следующее.
Полина Львовна спрашивала, как у меня дела на работе. Или не переводят меня куда-нибудь на район. Как раз тогда часто бывало, что районные отделения милиции укрепляли за счет областных кадров. Говорила также, что если ушлют в глушь, то квартиры не увидим. Там и застрянем. А у нее связи. Может замолвить кое-что.
Люба спросила, не скрываю ли я от нее чего-то по работе? К Лаевской начальство ходит, то есть жены, ей много известно. Ни с того ни с сего она не болтанет.
Я заверил Любу, что перемен по службе у меня не предвидится. Но в уме заметил, что Лаевская платье бутылочное, ноское и немаркое будет шить долго. Долго она его будет шить-метать. Нервы моей жене мотать.
Но выхода не было. Пускай помотает. Ничего не вымотает. Подлюка такая.
Я побеседовал с товарищами, проанализировал ситуацию. Отношение ко мне руководства не изменилось. Хороший счет как был, так и остался.
Закинул удочку на всякий случай:
— Всю жизнь мечтал в райончике где-нибудь поработать. Тишина-покой. Разнимай мужей с женами, и все дела.
Как раз после партсобрания возвращались с нашим кадровиком.
Он меня по плечу похлопал и по-доброму пошутил:
— Такими, как ты, Миша-Михаил Иванович, не разбрасываются. Время сейчас не то, чтоб кадрами кидаться. Мы тебя ни в какой район не отдадим. В самый передовой — и то не отдадим. И квартиру тебе выделим. Так и знай. И жене скажи, чтоб готовилась.
Эта радость загородила нам с Любочкой весь белый свет. Несмотря на то что Анечка подхватила на Десне воспаление легких и больше месяца мы ее выхаживали с помощью докторов в домашних условиях, мы жили предстоящей радостью простора и отдельности.
В конце сентября дали однокомнатную квартиру с умеренной кухней. На Коцюбинского. Там пленные немцы построили целую улицу. Наш дом — ближе к новому базару.
Въехали. И без второго ребенка обошлось. Повезло.
И вот в эту квартиру приперлась Лаевская.
Секрета не было — на старом месте наш адрес знали, мы им еще вдобавок завещали всем раздавать новый адрес. Мало ли что.
Вот и что.
Я открыл дверь лично.
Лаевская с первой секундочки пёрла на меня грудью.