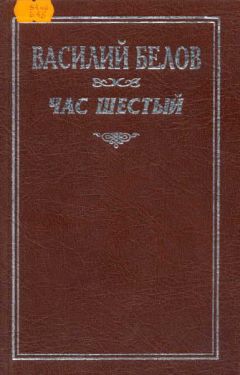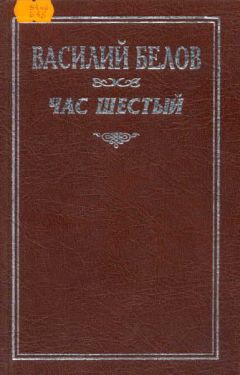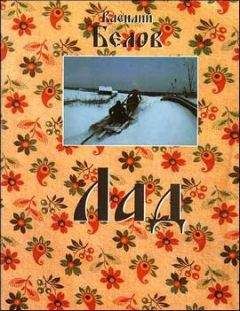Василий Белов - Кануны
Широкоплечий, розовый после чаю Евграф сидел на чурбаке у дверей и сучил для вершей нитки. Хозяйка Марья мыла посуду, а их дочь, грудастая, белокурая и востроглазая Палашка, собиралась в кути на игрище. За столом сидел гость, бородатый хозяйкин брат Данило Пачин, который, беспокоясь об уехавшем за рыбой сыне, пошел его встречать, не встретил и все поглядывал в окно и тужил, что приходится ночевать.
— Полно, Данило Семенович, — утешал Пачина шурин Евграф, — погости и в Шибанихе, не все Ольховица.
— Оно бы что, — кряхтел Данило. — Парень-то у меня… Третьи сутки ни слуху ни духу.
— Пашка парень проворной, ничего с ним не сделается, нараз прикатит.
Но Данило не успокаивался и все поглядывал за занавеску в окно, поджидая сына. Рядом с Данилом сидел и перебирал семенной горох Степан Клюшин, черный, с разными глазами мужик. Клюшин был книгочей и выдумщик. Он выписывал из Вологды какие-то журналы, ежегодно вводил в хозяйство что-нибудь новое: то посеет клевер, то смастерит какую-то особую соху. Больше всего Степан Клюшин не любил попов и нищих, был молчалив, хотя частенько говорил о политике, а в ТОЗ, кредитку и мелиоративное товарищество вступил самым первым. Сейчас он отбирал в решето горох, принесенный из дому в корзине. Жена его, Таисья, пряла, отец Петрушка, хлопотливый старик с белой апостольской бородкой, судил о чем-то с Евграфом. Клюшины пришли гулять целой семьей.
Были здесь и чинные Орловы, муж да жена, сидел тихий, словно пришибленный, Василий Куземкин, осторожно покуривали братаны Новожиловы. Дожидался Палашку гармонист Володя Зырин, а на горячей лежанке, разувшись, сидела старушка Климова, по прозвищу Гуриха. Она сидела и нюхала табачок из деревянной, оправленной медью Петрушиной табакерки, то и дело колотя друг о дружку сухими жилистыми ножками.
Из мужиков самым непоседливым на этой беседе был Иван Нечаев — молодой, только что отслуживший действительную. Красноармейская жизнь прошла для Нечаева приятно и скоро. Служил он под Питером, в небольшом, но веселом городке, именуемом Красным Селом. Нечаеву присвоили звание младшего командира, и, приколов на ворот гимнастерки два рубиновых треугольника, он вернулся в Шибаниху. Вернулся с тем же настроением беззаботного мальчишества, с каким уезжал на службу. Когда он, даже не дождавшись последорожной бани, побежал в гости, мать его, Фоминишна, только и успела сказать: «Ох, Ванькя, Ванькя…» За один год Нечаев удосужился и жениться, и срубить новую зимовку, амбар, баню и хлев: азарту в руках было много. Зато по праздникам, даже трезвому, ему не сиделось на месте, надо было куда-то бежать, с кем-то говорить, что-то делать. Нынче, угодив на спокойную мироновскую беседу, Нечаев не знал, что делать, его подмывало уйти в другую компанию.
— Что, Ванюшко, не принесла еще Анна-то? — спросила Гуриха.
Анна — это жена Нечаева. Ей вот-вот надо было родить, отчего на Нечаева нападал страх и хотелось спрятаться куда-нибудь наглухо, с головой. Он сказал, что нет, Анютка еще не принесла, и из озорства попросил понюхать. Он дважды и сгоряча сильно нюхнул, и начал так часто и громко чихать, что все зашумели, подавая всякие советы. Дедко Петруша Клюшин тряс редкой белой бородкой; бегал вокруг зятя Нечаева, приговаривал:
— Ванькя, надо затычку, Ванькя, остановись, затычку выстрогаем!
Как раз в этот момент и вбежала в избу сестра Нечаева, перепуганная и простоволосая Людка. Она забыла даже поздороваться, всплескивая руками, приговаривала:
— Ой, Ваня, беги домой-то! Ой, Анютка-то родит, ой, Ваня, скорее-то!
Нечаев оглянулся вокруг, ища выхода из такого положения. Но выхода не было, он перестал чихать, вскочил с пола, и они убежали оба с Людкой. Все зашумели еще больше, обсуждая событие.
— Поняли барскую жись, поняли! — верещал дедко Клюшин в ухо Евграфу. Он намекал на то, что Анютка не барыня, могла бы родить и так, без мужика, с одними бабами.
Но чуть позже дедко вспомнил, что Анютка ему внучка, и, довольный зятем Иваном, блаженно задумался, потряхивая своей белой бородкой, сквозь которую пробивался еще совсем не стариковский румянец.
Тем временем Нечаев за два прыжка перемахнул дорогу, стремительно пробежал по тропке и влетел в дом. Оказалось, что тревога была напрасной. Жена Анютка еще не рожала.
— Так ты чего, значит, это… — Нечаев быстро ходил по полу. — Ну, я побегу. Ежели что, буду у Кеши в избе.
Не слушая ни жену, ни мать, ни сестру, Нечаев убежал на другую беседу, ко второй главной компании.
Дом, вернее, изба Кеши Фотиева стояла точно в центре Шибанихи. Пустая клетина вкупе с порожним хлевом была придавлена односкатной отлогой крышей, четыре окна без вторых рам, сплошь запушенные морозом, весело бросали на дорогу то угасающий, то вспыхивающий свет. Лучина была еловая.
В эту избу мог входить кто угодно, в любое время года и суток. Фотиевские ворота не запирались от самой Кешиной свадьбы. Кеша, по его словам, не чинил ворота «из прынципа», назло своей теще. Когда однажды он взял напрокат у Брусковых сани с тулупом и поехал сватать будущую жену Харезу, то теща, и правда, пошла супротив Кеши. Сначала она вообще не отдавала дочку, вертела Кешей и так и сяк. Через неделю после сватовства она приехала смотреть место. Дорога была длинна, и к дому будущего зятя прикатили уже затемно. Ворота сильно заскрипели. Кеша с матерью вышли встречать гостей. Но теща не вылезла из саней. Она велела мужу заворачивать мерина, говоря, что у хорошего хозяина ворота не скрипают и что в такой дом дочку она не отдаст. Кеша своротил-таки тещино упрямство и Харезу высватал, но от ворот с той поры отступился начисто. Они второй год не закрывались совсем.
Изба освещалась двумя лучинами, вставленными в кованое светильне, перед которым стояло долбленое корыто с водой. Еловые угли дымили и заворачивались в круги, норовя упасть мимо корыта. Дым от лучины, а также табачный в большом изобилии накопился в избе, часть его вытягивало топящейся печкой, сложенной посреди пола уступами, в виде пирамиды. Эта печка, называемая почему-то «галанкой», тремя коленами железных трубаков соединялась с боровом русской печи.
Человек двадцать одного пола, но самого разнообразного возраста собралось у Кеши. Сидели на лавках, за столом, либо полулежа около печки на черном, но почему-то уютном полу. Может быть, потому и уютном, что на нем можно было сидеть и лежать в любом виде, в любом очертании, не рискуя замарать его штанами и валенками. Дух полной свободы и легкости витал в этой избе вместе с дымным, снежным, табачным и прочим, вся компания разделена была на несколько мелких. Кто окружал «галанку», кто стол под святыми, а кто старательно и невозмутимо обслуживал светильне: щепал лучину, вставлял, подпаливал. У печки, орудуя кочергой, розовые доброхоты по очереди усиленно подкидывали на огонь, иные пекли принесенные из дому луковицы, другие делали из лучинок кресты и стрекалки. У задней стены состязались в загадках, а также в том звуковом, не очень благородном, но, впрочем, всегда кратковременном занятии, которое недостойно упоминания.