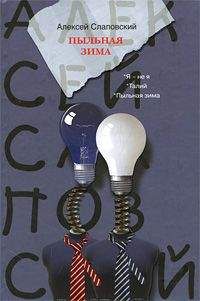Алексей Слаповский - Талий
Она не могла заболеть СПИДом, скажет Талий.
Хорошо, пусть другая причина, скажет Вероника. Она безнадежно полюбила. И, будучи девушкой гордой и страстной, не вынесла тягости неразделенной любви. Но это все ерунда, Талий. Есть только одна настоящая причина покончить с собой у того, кто решил покончить с собой. Эта причина: он решил покончить с собой.
Это следствие, возразит Талий.
Ничего подобного, усмехнется Вероника. Это желание в ней, быть может, с трехлетнего возраста. Тебе никогда в голопузом детстве не приходилось играть с острыми предметами, испытывая странные ощущения?
И Талий послушно вспомнит — как вспомнил вот сейчас.
Он сидел, болтая ногами, за кухонным столом, глядя в окно, утром, в одних трусах. Года четыре ему было. Лето было. Жарко было, он помнит. Взял нож — не острый, с закругленным концом. И почему-то стал вдавливать в кожу живота, проминая ее так, что кончик был не виден, словно нож уже вошел в тело; у Талия защекотало страшно и сладко ниже живота, он стал надавливать еще сильнее, глубже — до боли. Оглянулся — будто что-то запретное делает, и схватил нож другой, с концом острым. Этот нож был больнее и почти сразу же проколол кожу, Талий испугался, отдернул руку с ножом, но непреодолимая сила заставила его попробовать еще и еще раз, но тут послышались шаги мамы — и он бросил нож, сердце колотилось, он ушел из кухни — и никогда больше не возвращался к этим странным экспериментам…
Неужели было? — удивится Вероника, обнаружив, что Талий хоть и не вполне человек, но что-то человеческое в зачатке имеет. Тогда, скажет она, ты способен понять меня. Не ищи, не допытывайся. Причина самоубийства — вся жизнь, следовательно, чтобы сказать себе, что ты более или менее знаешь причину, нужно всю жизнь человека изучить досконально, но и это будет знание приблизительное, в идеале нужно стать самим самоубийцей, хотя и это не идеал, так как и сам самоубийца никогда точно не знает, из-за чего он кончает с собой.
Кто ж знает? — потерянно спросит Талий.
Бог знает, если он есть, ответит Вероника, которая, как истинный человек вечного перепутья, находится в постоянном богоискательстве, ища пути к Господу исключительно с помощью богохульства, особенно в присутствии людей, которые в Бога верят, поэтому среди ее знакомцев есть молодой брадатый широкоплечий дьякон, она ведет с ним диспуты, чуя в нем Мужчину, зверя, и провоцируя в нем этого зверя — и зверь, возможно, выжрал бы все святое в дьяконе ради греховной любви этой женщины, но он не уверен, что она не посмеется над ним, когда он отринет свои убеждения ради нее…
И после Вероники, вроде бы, не будет уже необходимости ни к кому идти, но Талий пойдет, он знает, что пойдет. Пусть она права, пусть причина — вся жизнь, то есть — множество причин, но он, ладно, попроще Вероники, он удовлетворится и одной — какой-нибудь, лишь бы она обозначена была, проявилась как-то.
Он пойдет в старому актеру Волобееву, полубезумному восьмидесятилетнему старику, который играл не где-нибудь, а во МХАТе. МХАТ был эвакуирован сюда во время войны. Те, кто помоложе, гастролировали по фронтовым и тыловым подразделениям, Волобеев был средь них, просился воевать, но не брали по здоровью: врожденный порок сердца. После войны он остался здесь, женившись по молодой глупости на торговке, горластой бабе старше его, которая грозила всеми карами социалистической законности, если он бросит ее с сыном, рожденным от него и с двумя дочерьми, рожденными от других неизвестных подлецов. По мягкости характера он решил поставить на ноги детей, а потом уж… А потом были сердечные приступы, радикальная операция, полуинвалидность, но нежелание расстаться с театром — пусть хоть всего два выхода в месяц в эпизодах, торговка его бросила, верней выгнала, театр выхлопотал ему комнатку в коммуналке, где он и живет до сих пор, хворая и мужественно одиночествуя, говоря с некоторой даже гордостью, что примерно с пятнадцати лет и по сию пору не помнит ни одного дня, чтобы у него не болело сердце. (Ни одного! — с ужасом думал иногда Талий.)
Лишь Наташа из всех людей навещала его (иногда с Талием), приносила кое-чего поесть, прибиралась (дома у себя это занятие очень не любя), — и они пили чай и говорили о театре, только о театре, ни о чем другом. Я великий актер, говорил Волобеев. Я беру роль — и молча ее читаю про себя. Я слышу свой внутренний голос — он звучит гениально! Я начинаю произносить вслух, получается — дерьмо! Понимаешь, Наташечка? (Наташа кивала головой, понимая.) Всю жизнь я прожил, зная, как играть, и не умея играть! У меня был друг, в Москве, давно, страшно давно…
У меня был друг в Москве, давно, страшно давно, повторит он и Талию. Он был музыкант. Он имел абсолютный музыкальный слух. Не просто даже абсолютный, а абсолютно абсолютный. Он играл на флейте в симфоническом оркестре — и из ста инструментов — или сколько их там? — он слышал каждый, он слышал малейшую фальшь в каждом! От этого с ума можно сойти — и он пил, конечно. Он и один играть не мог: тон не тот, темп не тот, сила звука не та — он ни одной уже ноты взять не мог, все казалось: фальшь, фальшь! Ломал флейту, пил до того, что в больницу попадал. А потом мы с ним потерялись. Говорят: до белой горячки допился и повесился. Но не в белой горячке дело, в гордости! Это ведь страшно: талант есть — а выразить не можешь! Немота! Сверхгениальность! Что такое сверхгениальность? — это когда твой ум выше твоего гения! Вечное недовольство собой! Я бы тоже давно повесился, но меня болезнь спасла. Большое счастье иметь такую болезнь, когда то ли живешь, то ли подыхаешь — каждый день. Чуть легче — уже счастлив. Уверяю вас, молодой человек, с собой кончают или очень здоровые люди — или окончательно больные. Наташечка, красавичка… (тут он всхлипнет и хлебнет портвейнчику)… она здоровая была. Но — гордость! Уверяю вас — от гордости! Она имела абсолютно абсолютный слух! Во всем! Но эта жизнь — сплошная музыка фальшивых инструментов! И она этого не вынесла. Я вынес, но я подлец. Больной человек всегда подлец и эгоист, заметьте это себе! А она задохнулась в фальшивых звуках, она захотела, чтобы прозвучала хотя бы одна абсолютно чистая и точная мелодия — мелодия гибели. Эта мелодия всегда точна, поверьте мне, я знаю, я — гибну всю жизнь. И это меня спасает. А вот был у меня в Москве друг музыкант, давно, страшно давно…
Только в этом и проявляется безумие — или просто старческая слабость ума — Волобеева: говорит абсолютно ясно и складно, но способен через пару минут начисто забывать все, о чем говорил только что, — и начать заново.
И, к кому ни придет Талий, каждый изложит свою версию.
Затравил, не уберег, заел своей нудностью, скажут отец и мать ее — не словами, слезами и взглядами скажут.
Такая, значит, карма у нее и чакра, вздохнет актрисулька Горячкина, которая в театре служит только для проформы, практикуя частным образом колдовство, гадание, ведовство и проч., основанное на сочетании методов древнерусского знахарства, буддийской мудрости и самой забубенной цыганщины.
Связалась с Шестиконечным Орденом, довели ее, гады, зомбировали, заставили, убили то есть! — как лучших людей убивают, чтобы опустела Россия! Я — следующий, попомнишь мои слова! — скажет артист Шкарлак, свихнувшийся на дешевом анисемитизме, исследующий деятельность какого-то сионистского Шестиконечного Ордена, повинного во всех бедах России, активный деятель местного отделения компартии (недавно на площади в кучке старух красный стяг высоко держал), артист при этом весьма приличный, особенно любящий играть молодых отцов рано выросших детей. Один из таких детей, юноша с пушистыми щеками, только что принятый в театр, прилюдно бил его ладонями по лицу — справа-налево, слева-направо, при этом плача, всхлипывая, плакал и Шкарлак, крича про какую-то ошибку, какое-то недоразумение…
Режиссер Миша Иванов, единственный, кого она признавала за режиссера, но — безработный ныне, отъездив лет пятнадцать по провинциальным театрам (и даже в Питер заносило), осев здесь, с отвращением занимаясь народным театром при Доме Учителя, Миша Иванов скажет: никому мы не нужны. Это хуже всего — ощущение твоей ненужности. Кто-то переносит, она не смогла. Вот и все.
Друг Талия, Алексей Сославский, газетчик и непризнанный поэт, пьяница и бабник, скажет (тут фантазия Талия окончательно разыгралась, ее, говоря по-народному, по-современному, зашкалило): «Это я виноват, Таля! Хотел молчать, но не могу! Три года люблю твою жену! Смертельно! Домогался, преследовал, шантажировал, — жить без нее не мог! Интервью пришел брать — вот сюда, сюда вот! — (переходя на крик) — ты на работе был, а я влез в твой дом, как гнида, я жене твоей в душу без мыла лез, шампанским поил, на жалость бил, провоцировал, раздел насильно, сам разделся, она боролась, я ударил, да, ударил, сознания лишил и… ты понимаешь? Но мне, гниде, этого мало, я камеру включил, видеокамера портативная была у меня с собой — и снял, снял, убей меня, снял все это в автоматическом режиме, а потом шантажировал Наташу пленкой: или моей будешь, или все Талию скажу, а Талий от горя умрет, вот она и… Письмо послала перед этим мне, одно только слово: «Сволочь!»