Афанасий Мамедов - Самому себе
Я бросил трубку.
Было чертовски неудобно перед Викой. Теперь она не только гостья, она еще и свидетель. Свидетель старой-престарой семейной истории.
Аппарат гудел.
Я поправил трубку.
Ведь знает же, что меня бесит это “Коко”, и каждый раз как ножом по стеклу.
Ну, дядя Тоня, дядя Тоня, похоже, твой пострел везде поспел! Поспел рога наставить мне. Могилу не разроешь, а вот свою сучку я уже просто должен… Должен? Кому? Ох, это завещанное нам из XIX века про “тварь я дрожащая или право имею?”. Старо. Старо. Право есть у того, кто взял! Раз взял, то вот уж, значит, и имею! Одно лишь “но” во всем этом…
– А где ваша кошка? – Подняла с тахты томик Марка Аврелия “К самому себе”.
– Какая кошка?
– Как какая? Вы же мне тогда по телефону говорили…
– То был чайник. То есть я хочу сказать, что никакой кошки не было, а просто кипел чайник.
Наверное, я говорил несколько раздраженно, потому что Вика спросила:
– Неприятности какие-то? Был нехороший разговор?
Конечно, особой проницательности для подобных слов не надо, однако слова были сказаны, и сказаны с участием, и даже с легоньким волнением, поскольку в ее речи мне послышался некий ненашенский акцент. Откуда она? Беженка, что ли?
Я вложил в ее руку бокал.
– Давай-ка выпьем.
Мы выпили стоя. Свой бокал я осушил весь.
Ногою я пододвинул пуфик поближе к ней, чтобы быть напротив ее округлых яблочных колен. Они такими теплыми под пальцами моими оказались и так послушно поддались моему мягкому усилию их раздвинуть, что… А надо было бы, наверно, мне подняться с пуфика и, не задумываясь, вот как с шампанским получилось, ей предложить…
Ее перед необходимостью поставить… Она же сидит, и как раз напротив, на нужном уровне… Удобная начальная позиция. А дальше все б пошло, пошло бы да поехало!.. Но тут я вспомнил, что забыл вымыться: колонка барахлит, возиться с ней…
И были проводы потом с длинным молчанием между пустыми, никакими фразами, с томительным топтанием на остановке, с нашим совместным волевым усилием взглядами вытянуть никак не появляющийся из-за угла автобус.
Желание расстаться у нас было обоюдным, однако мы договорились о встрече.
Не знаю, на что рассчитывала Вика, но я-то уже знал, чего хочу, и потому свидание назначил ей вне дома.
Хорошо, что еще не зима: зимнего человека всегда труднее убивать – столько одежды… С другой стороны, оно вроде бы и не так уж вредно, поскольку обильность истечения “красного клейстера” и все другие мясницкие детали, необходимые для прекращения жизни, останутся где-то там, под одеждой, подальше от моих к этому делу еще не привычных глаз.
Свидание я назначил неподалеку от корейской шашлычной: я робкий человек, приходится признать, и если уж куда-нибудь придется даму пригласить, то лучше в заведение более-менее знакомое, а то начну смущаться, экать-мэкать… Конечно, это крайне непредусмотрительно с точки зрения конспирации, но, может, обойдется, а рядом там как раз беседка мифической Ларисы-бесприданницы (сколько приволжских городов такие же имеют?!); место удобное, безлюдное по будним дням и, кстати, прямо над обрывом… В общем, посмотрим, как все сложится.
Автобус наконец, поддавшись нашему гипнотизерству, показал свой стеклянный лоб из-за угла. Притормозил.
Я посадил Викторию и двинулся домой.
Конечно, надо бы мне не с Вики, а с жены начать, но это без последствий вряд ли останется. Наказание обязательно воспоследует.
Ведь подозрение непременно падет на меня. А при другом? А при других? Во всех вариантах копать начнет какой-нибудь заурядный сыщик. Вместо классического трэнчкота на нем будет замусоленная
“аляска”, вместо трубки “Биг-мэн” – сигарета “Союз-Аполлон”; никакой тебе дедукции, никакой индукции, а только мат с приволжским выговором и мордобой. “Признаете ли вы себя?..”; “Нож ваш?”; “В котором часу вы встретились со Зверь-Джавадом?”; “Были ли вы с ним знакомы раньше или познакомились у корейцев?”; “Какое место занимала в вашей жизни эта женщина?” – и так до самого суда! А на суде
Семеныч накинет на меня свою удавку. Но что же это за преступление, если есть наказание?! Где ж удовольствие тогда? Нет – так я не согласен. И коли уж честно говорить, как на духу перед самим собой, то я не думаю, будто смогу свершить с женой все как надо: родное тело все-таки. И только ли одно всего лишь тело?..
Подходя к дому, обнаруживаю: оказывается, я не запер дверь. И это мне уверенности в себе тоже не прибавило. Хорошо еще, что никто из прохожих моим постыдным раздолбайством не воспользовался. Впрочем, какие здесь по вечерам у нас прохожие? “Аптека, улица, фонарь…” И то “аптеку” я присочинил, и фонарей у нас две трети не горит. Закрыл надежно за собою дверь, пренебрегая остатками уже беспузырчатого шампанского, пошел на кухню и с удовольствием принял полстакана водки, да от соблазна поскорей вернул бутылку в холодильник.
Друг – мертвый таракан – лежал на месте.
Мертвые – мертвы.
Как бы не так! Живой дядя Антон был просто высокий, чуть сутуловатый старикан с прокуренным янтарным мундштуком, где постоянно, пока он возился в большой комнате со своими сметами, с длиннючими полотнищами графиков, тихонько исходила вонью дешевая “аврорина”, наращивая серый столбик пепла.
На мой взгляд, дядя Тоня не менялся, он всегда был таким же привычно и неинтересно старым, как резной красного дерева книжный шкаф. А вот когда он умер… Нет-нет, совру, если скажу, будто он сразу занял в моей жизни место, подобное “живее всех живых”. Сначала он просто исчез, ушел вроде многих ветхих домов на нашей улице или приятелей по институту, которые в другие города распределились. Правда, потом, в эпоху моих трудностей по части диссертации и неладов с начальством, дядя Тоня мне не раз вспоминался – наверно, хорошо людям, когда уже нет ситуаций, как у богатыря на перекрестке с тем пресловутым серым камнем. Пыхти себе спокойно сигаретой, готовь трофейный “Зауэр” к охоте осенью, зимой почитывай Марка Аврелия с
“фетами” и “ятями”, а пенсию приносят аккуратно, кое-какие льготы участник ВОВ все-таки имеет. Но самое интересное, что образ дяди остался неизменным в моей памяти, будто за те десятилетия, когда мы жили бок о бок, он не изменился ни капли.
О черт, это же надо таким дурнем оказаться!
Нет, старость – динамична, она более динамична, чем человечье становление, только с обратным знаком: там – от нуля, от капельки любовной к двадцатилетней особи, а здесь – от пенсии (хотя у нас мужики многие даже до пенсионства своего не доживают) одна пятилетка или чуть побольше на “дожитие” – и все. Так что ложись-ка, милый, спать, пока живой, в порядке тренировки перед грядущим вечным сном.
Сдернул покрывало со своей лежанки.
Посплю на чистой простыне сегодня: к постельным приключениям подготовился, дурила.
Улегся. Победоносно выдержал борьбу с желанием пойти и еще немного выпить водки. Только примостился, уютно подогнув колени, только стала наваливаться сонная путаница в мыслях, как вдруг – дзеньк телефона вскинул меня.
Сначала короткое молчание, потом:
– Салют еще раз! Ты теперь уже один? Будешь разговаривать?
– А я и был один.
– У меня ничего такого с Антон Егорычем не было. И как ты мог подумать такое?!
Молчу. Самое дело сейчас – промолчать. Тем более что и сказать-то мне сейчас нечего.
Однако на том конце провода – тоже молчание.
– Ладно, извини. В субботу я, наверное, к тебе заскочу. Но, конечно, звякну предварительно. Спокойной ночи.
– И тебе… спокойной.
Понятно, сна уже как не бывало.
Лежу, ворочаюсь, то открываю, то закрываю глаза. Темнота вокруг – уже не просто темнота. Темнота – то, чего я страшно боюсь и гоню от себя даже в светлый, погожий день. Темнота – вечное горизонтальное положение, это – когда только две параллельные линии, ты и Земля; и не имеет ровным счетом никакого значения, родная она тебе или нет, круглая или не очень. Было такое слово в дореволюционных книгах -
“снохач”… Мое бредовое предположение-подозрение, отскочившее мячиком от стены после телефонного разговора, пусть даже с отрицанием “не”, теперь стало совсем другим – весомей, что ли, правдоподобней.
Я поднялся и тихо пошлепал в туалет, прихватив с собой сигаретку, дядьтонин янтарный мундштук и забытую Викой зажигалку. Я пошлепал в туалет прочь от ночных мыслей.
Оттуда прошел в ванную ополоснуть руки, открыл кран и задержался.
Стою, внимательно разглядываю каждый угол, будто вижу впервые.
Ванна у нас старинная, видавшая виды, на чугунных ножках в виде львиных лап; вся в трещинах, с облупленной эмалью, и зеркало ему под стать, и… Мое тело – тоже!
Стою и смотрю в зеркало. Как надоела мне эта дряблая глазастая оболочка, которую я не люблю и узнаю теперь с таким трудом! Я это – кто? Я – тот, что в памяти остался, с темной, а не седой кустистой порослью на выпуклой, мускулистой груди пятиборца, или этот помятый старпер на истончившихся пергаментно-бледных, безволосых ногах? Вот кого надо бы… А что?! Два ствола в рот – и все остальное, все, что после этого мига, уже не мое, уже не имеет ко мне никакого отношения. Гляжу на себя и спрашиваю в который уже раз: неужели дядька мой мог на родного брата донести?! Пока у нас в стране еще демократия, надо поднять отцовское “дело”. Поеду и все узнаю. И если есть там пусть не донос, а просто показания какие-то дяди Антона против отца, то… То дважды два и не четыре вовсе и я волен делать все, что захочу. А если нет там такого ничего, тогда… Тогда живые пусть и останутся живыми. Пусть.

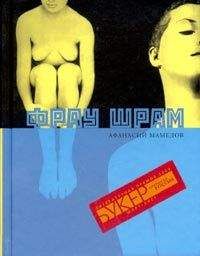
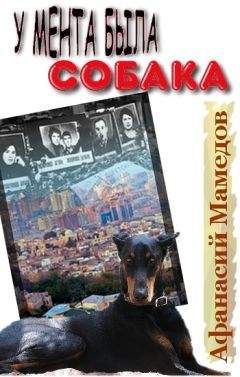
![Афанасий Коптелов - Дни и годы[Из книги воспоминаний]](/uploads/posts/books/50636/50636.jpg)
