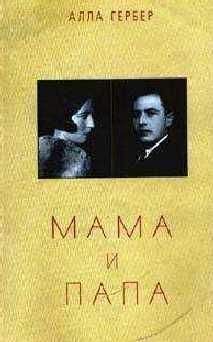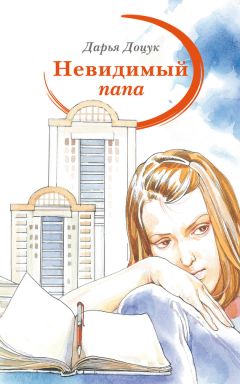Роман Братный - Загонщик
Мы крепко подружились с Помыванцевым. Он приносил тушенку, я иногда доставал водку. Он часто пел. Для нее же, видимо, было интересно все: и когда Помыванцев говорил, и когда пел. Она вслушивалась в голос, в интонации незнакомого языка. Ей уже трудно было вставать, кашель становился все сильнее. Помыванцев каждое утро приходил бриться, хоть у нас стало так же холодно, как и внизу. Я сжег все: наш «стол», табуретку… Кашель усиливался.
Однажды утром Помыванцев привел какого-то человека.
– Это, понимаешь, врач. Встретил вчера, и думаю – надо ловить момент, – весело говорил он, расстегивая медицинскую сумку.
Вынул оттуда стетоскоп и, ребячась, воткнул трубочки себе в уши, чтобы показать ей, зачем здесь доктор.
Мы оба вышли за дверь. Я плохо понимал по-русски и скорее по выражению лица Помыванцева, чем со слов врача, догадался, как обстоит дело.
На следующий день он не пришел бриться. Мы не обменялись с ней ни словом, но оба ждали его. Помыванцев не пришел и вечером; внизу я увидел незнакомые лица. Он оставил мне как-то номер полевой почты, но где эта часть, я побоялся спросить. В тридцать девятом году я был свидетелем, как расстреляли на месте «шпиона», имевшего неосторожность разыскивать часть, в которой служил его сын. Сына он не нашел, сын нашел его на полчаса позже. Вечерело, багровый закат окрашивал снега неживым светом. В это время на дороге показалась колонна. Люди разбрелись по двору. Я приметил знакомого солдата.
Спустившись вниз, я чуть не наткнулся на Помыванцева. Он сидел ко мне спиной. Вся его фигура выражала напряженное внимание и сосредоточенность, он что-то делал короткими ритмичными движениями. Я зашел сбоку. Помыванцев чистил ордена.
Стоявшая рядом бутылочка добытого где-то «сидола» подтвердила мою догадку. Трудно сказать, что меня удержало, но я молча тихонько отошел от него. С порога еще раз поглядел на его широкую спину, на склоненный, заросший затылок. Среди лежавших на соломе усталых, грязных людей он казался существом из другого мира.
Она кашляла всю ночь. Я чувствовал, что у нее поднялась температура. Мне приснилось, будто я увез ее в горы. Мы бродили среди облаков, и опять возник, будь он не ладен, Яворек со своей немецкой двустволкой. В те часы, когда не спалось, я трезво размышлял: как знать, может, в другое время он бы и сам выдал их со спокойной душой, а тут просто не выдержали нервы. И все же только он один из нас, загонщиков, в некоем смысле получил отпущение грехов. Она что-то говорила во сне, металась. Среди ночи я перебрался к себе на соломенную подстилку, у стены. Легкий стук – и я сразу открыл глаза. Такой чуткий сон у меня еще с подполья. И она бы спала чутко, если бы не болезнь.
Я встал и босиком подошел к двери.
– Помыванцев, – послышался шепот еще раньше, чем я успел спросить, кто там. – На фронт уезжаем, – объявил он с порога и жестами показал, чтобы я шел за ним. Не понимая, в чем дело, я торопливо оделся. Уже рассвело.
Он сбежал вниз, под полушубком у него что-то брякнуло. Когда он втолкнул меня в кабину тягача и дал знак шоферу трогать, мне стало не по себе. Тягач с рычанием преодолевал ухаб за ухабом. Я спросил, куда мы едем, но Помыванцев только посмотрел на меня задумчиво и ничего не ответил.
Он показал шоферу на аллейку росших у дороги берез, остаток порушенного леса. Резко крутанув баранку, водитель повернул машину. Помыванцев выскочил первым. Я одурело глядел, как он вытаскивает из-под сиденья длинный, обернутый тряпками предмет.
– Давай скорей! – Он размотал пилу и поспешил к ближайшей березке. Водитель, здоровенный парень, взялся за топор. Еще не все понимая, я дернул ручку пилы. Тогда Помыванцев объяснил: это, мол, все, что он для нас еще может сделать.
– На фронт, брат, на фронт. Пусть вам хоть немного теплей станет, как вспомните Помыванцева, – добавил он, ритмично потягивая на себя пилу.
Потом они оба с водителем бросились к поваленной березе, и через несколько минут я уже грузил на тягач дрова.
Я засмотрелся на березки, белой стайкой бегущие навстречу своей гибели, и странное чувство охватило меня. Но надо было пилить дальше. Шофер разрубал стволы вдоль. На тягаче уже возвышалась приличная поленница, когда мы подступили к большой березе, предводительнице стаи. Я пилил ее в полном смятении от кольнувшего меня вдруг злого предчувствия, зыбкого, но неотвратимого. Когда береза упала и По-мызанцев примерился распилить ее пополам, я отвел пилу.
– Эту оставим. Повезем целой.
Он хотел что-то сказать. И вдруг, могу поклясться, понял, прикинул на глаз ее длину.
– Еще одну надо, – сказал он тихо.
Назад мы ехали медленно, чтобы не растрясти груз, с березой наверху, словно с белым гробом, плывущим на лафете.
Она лежала в своем лотке. Перед уходом я укутал ее всем, что нашлось. Помыванцев снял полушубок, сверкнул надраенными медалями, смущенно улыбнувшись, накрыл ее полушубком и заторопился во двор, где шофер уже рубил дрова. Она прислушивалась, но слышала, наверно, лишь шум автоколонн, с рассвета двигавшихся по дороге. Помыванцев быстро вернулся, наложил в печку дров, пустив на растопку мою соломенную подстилку. Пламя полыхало, потом огонь начал в раздумье отступать, пока наконец не загудело в трубе. Помыванцев встал и торжественно подошел ко мне.
– Ну, прощай, колесник, – негромко сказал он и стиснул меня так, что хрустнули кости.
В эту минуту кто-то толкнул дверь, на пороге стоял незнакомый офицер.
– Ну, как? – спросил он строго. Помыванцев со своим тягачом, видимо, опаздывал на поверку, внизу нетерпеливо урчал заведенный командирский «газик». Помыванцев по-военному четко шагнул к двери.
– А это что? – Офицер показал на укрывавший ее солдатский полушубок. Помыванцев хотел что-то пояснить.
– Теперь уже тепло, – убеждал я его, стараясь не замечать пар, шедший изо рта. – Забирай, спасибо тебе. – Я стряхнул сено с полушубка и отдал ему.
Он вышел. Офицер вышел следом за ним.
«Газик» внизу фыркнул выхлопными газами. Я стоял в опустевшей внезапно комнате, смотрел на большой лоток, почти порожний, таким маленьким казалось ее лицо там, в верхнем углу. С дороги доносился ровный гул моторов.
Привычка молчать – наша заповедь, или «закон», как говорят русские, – сейчас мне пригодилась. Мы разыграли то, что, может, и называется любовью, в полной тайне от слов. Теперь надвигалось другое, наверно, еще более трудное. В комнате стало теплей. Я даже раздобыл у мельника кое-какое постельное белье. Безмолвно лежащую в своем огромном, несуразном лотке – такой я ее запомнил.
В тот вечер – прошло уже дня три с тех пор, как ушла часть Помыванцева, с тех пор как у нас стало тепло, – я заговорил с ней. Я говорил о будущем. О том, что мы вернемся в город, где можно жить, где я хотел бы жить.
– Краков, – повторял я. – Краков.
Я никогда не жил в Кракове, но я там родился, и это значится в моем паспорте. Я описывал ей город, в котором мы поселимся. Город, не разрушенный войной. Она молча улыбалась – как в то утро, когда держала зеркало перед небритой физиономией Помыванцева.
Уснула она тихо, как всегда, – я понял это по ее ровному дыханию. Иногда она просто лежала с закрытыми глазами. Я ушел в свой угол, на солому. Утром она была мертва.
Сначала я машинально делал все, что полагается в подобных случаях. Жизнь требует больше энергии, когда надо хоронить умершего. Нахлынуло множество разных забот. Сперва я повез на одноколке лежавшую в глубине двора березу, чтобы распилить ее на доски. Но у плотника нашелся готовый гроб. Кого-то не успели в него положить – придвинулся фронт, половина жителей сгорела, в том числе и покойник. Я отдал взамен свою березку, деньги, а сам с грубо сколоченным ящиком потащился обратно. Выезжая со двора, оглянулся. Березка белела возле разрытой картофельной ямы.
Умерла она, очевидно, во сне. Потому что лежала, положив обе руки под щеку. Я долго ничего не замечал, ходил на цыпочках. А теперь погонял худую клячу, хотя спешить было некуда. По обеим сторонам дороги двигалась пехота. Солдаты шли нестройными рядами, словно утомленные долгой службой богомольцы, с вещмешками за спиной, в расстегнутых шинелях. Солнце пригревало, февраль был на исходе, чувствовалось приближение весны. Мне не хотелось идти наверх. Мельник с женой и работницей взяли гроб.
Я сидел внизу, где недавно квартировал взвод Помыванцева. Мельник поставил передо мной литровый горшок молока, полбуханки хлеба и три яблока. Румяные, краснобокие, они были страшней всего.
Лишь теперь, перед наглым, бесстыдным лицом жизни, я осознал, что ее нет. Эти яблоки жили. Разная разность жила. У стены лежала табуретка с отломанной ножкой. Почему я не стащил ее раньше, до того как Помыванцев поехал со мной в березняк? Наверху что-то стукнуло. Наверно, переносили гроб. Я хотел было пойти туда, но вместо этого взял яблоки и выбросил их прямо в грязь. Почувствовал внезапный голод и выпил молоко.