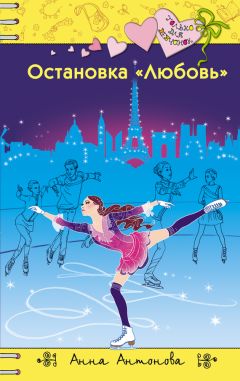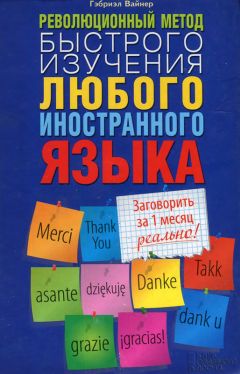Алексей Михеев - Любовь и другие рассказы
Самообольщение заканчивалось. Он опять приходил к изначальной сути. И хотя он вспоминал, что любить такую, какая она есть, с ее этим почти невыносимым стремлением к честности, со всеми ее особенностями, мог только он один — это уже не грело, не срабатывало. Исключительность пропадала, тонула в мире повторяющихся явлений, все это так называемое им «совпадение» каким-нибудь боком, по какому-нибудь, пусть иному, параметру, но могло быть и с другим.
Ночью у него болело сердце. Он просыпался у себя в номере часа в два и не мог больше заснуть. Он просыпался от безысходности, а думал другое: смотрел на часы, прикидывал время, и там, дома, учитывая разницу во времени, как раз получалось только начало ночи. И непроизвольно соотносил с тем, что завтра у нее выходной, воскресенье. Но старался перевести мысли на посторонее: от чего у него ревность? Ведь с ее характером она не изменит ему уже никогда. Он в этом совершенно уверен. Так к чему он тогда вообще ревнует? К прошлому? К собственному воображению?
И вообще, в чем механизм ревности? — продолжал думать он до утра. — Что под ней скрыто: досада, обида, неудовлетворенное самолюбие?..
А ведь, разобраться, пусть бы даже изменяла. Ведь вся ваша общность останется, она придет и опять одарит тебя всем тем, что ты в ней ценишь: похожестью, характером, разговорами — и вам опять будет хорошо. Почему мы не ценим того, что нам дают? Почему не ценим свое? Почему так завистливы и сходим с ума по чужому? Почему обуреваемы желанием безраздельной собственности?..
А если еще откровеннее: почему нас больше всего беспокоит именно один этот момент. Ведь не ревнуем мы к писателю, а ведь с ним может быть гораздо большая общность, и большее влияние он может производить на ум. Нет, потому что мы знаем: спать-то она все равно после книги будет со мной. И получается, что при всех наших красивых разговорах о духовности и интеллектуальной общности, главное беспокойство причиняет, главную заботу доставляет и владеет всеми нами до умопомрачения это преэлементарнейшее место. Использование этого места с другим…
А между тем, те подозрения, что возникли ночью и приняли теперь форму уже как бы предчувствий, чувства на расстоянии — вот сейчас там утро, просыпаются — которым он в свою очередь позволил появиться и на которые опять обратил внимание, овладели им целиком, до все усиливающихся сердечных колик, до какого-то безумного бормотания по дороге в архив утром: бр-р, к черту, к черту! — в ладони бил — тра-та-та-та-та, — лишь бы отвязаться…
Что делать? Что же, так будет всегда? И он обречен вечно беспокоиться о ней в разлуке? Как собака о своей кости: когда рядом лежит, она ей не нужна, а чуть расставаться с ней — так сразу понадобится, грызть начнет, заворчит, необходимой станет?..
И понимая уже, что иллюзия их духовности лопнула, что самообман доверия потерян теперь для них уже навсегда, и проклиная всю их последующую жизнь, в три часа дня он уже ехал домой в купейном вагоне скорого поезда, разрабатывая в уме систему слежки, чтобы уличить, «накрыть», застать, уже совершенно потеряв самообладание, распустив себя окончательно, перестав сколько-либо сопротивляться и полностью отдавшись обуревающему его ревностному чувству.
Что за ад? Что за жизнь?..
Любовь
К концу второй недели это мне начинало сниться. Я помнил нежную кожу на ее бедрах, полураскрытые губы, закрытые глаза. Весь день я думал о ее западающем, нервном дыхании, тонких, длинных и сильных пальцах и последнем нетерпении ее.
В конце концов, имел я право думать так о своей собственной жене?..
В школе, вызывая детей отвечать к доске и глядя в окно на качающееся от ветра у колодца пустое ведро, я прослушивал ответы учеников и ставил в журнал тройки автоматически. И если в начале первой недели каждое утро, идя к первому уроку в школу и глядя на поднимающееся над лесом солнце, ощущая игру бликов и теплоту его лучей на своем лице, я был полон умиротворения и покоя от сознания своей здесь такой непосредственной близости с природой, с ее совершенством, законченностью, невозмутимостью и спокойствием, и завораживался, заражался, упивался ею до той степени, что трудно было оторваться потом… Но, сделав усилие, возвращаясь на пороге школы мыслями к делам, все же отрывался, решительно входил в дверь, внося с собой уверенность и бодрость, избыток сил и готовность к борьбе, к работе, к поиску и эксперименту, к настойчивости в защите и отстаивании своих методов и идей. И если так все было в первую неделю, то уже к началу второй по дороге на работу я забывал обращать на восход солнца внимание, совершенно переставал замечать эту такую близкую для меня здесь природу, а в школе едва доводил занятия до конца…
Вечерами, свободными от подготовки к урокам, я ходил к своим коллегам, двум молодым супружеским парам, молодым специалистам, сверстникам, работавшим в школе уже третий год и жившим на разных концах деревни. Я ходил к ним по очереди, и там, в гостях, развлекая хозяев, рассказывая смешные истории, шутя, веселя их и смеясь сам, я на некоторое время отвлекался, вспомнив и свое умение острить, и умение точно выразиться, вспомнив былую кипучую художественную деятельность, институтский успех, КВНы, концерты, конкурсы, и наслаждался этой располагающей, хоть и на время, для проявления своих способностей обстановкой, наслаждался тем, что еще могу, что не разучился, не забыл. Еще в состоянии волновать людей и покорять их своим обаянием.
Но вечер кончался, и я все равно возвращался в свой пустой дом, брел один через всю деревню, и мне навстречу в ранних свежих осенних сумерках, бренча колокольчиками, пыля, мыча и топча дорогу, шло возвращающееся с полей стадо. Я проходил мимо него и мимо леса, начинающегося возле самой деревни перед рекой, останавливался перед осинами и, глядя вверх, привлеченный шумом их ветвей и опять обращаясь мыслями к природе, смотрел, как они сгибаются под напором ветра. Ветер задувал за воротник, срывал с деревьев листву, гудел, шумел, и голые верхушки деревьев качались на фоне все более темнеющего неба и быстро несущихся темных туч. Он дул в лицо, был влажный, и дышалось легко и глубоко. И чем глубже вдыхал я в себя этот свежий осенний воздух, тем восторженнее воспринималась природа, ее дикая мощь и сила. И перед лицом этой стихии, ветра, несущихся над головой туч, темного неба, этой беспредельности, бесконечности было хорошо, и жутко. И так отчетливо в этот момент осознавалась своя собственная малость. И продолжая все так же глубоко дышать и упиваясь этим могуществом и всесильностью, я разворачивался и возвращался назад, к коллегам. И так радостно было снова очутиться с друзьями, с людьми, с себе подобными, с такими же, как и я, перед лицом природы беззащитными и маленькими. И поговорить о задушевном, пошутить, посмеяться с ними в осознании своей суетности и слабости…
Но в конце концов я все равно уходил к себе, шел один и у своего дома опять задерживался перед калиткой, и опять, привораживаясь, долго и с томительным и мучительно сладким чувством смотрел на гаснущую синеву горизонта, на узкую полосу заката, медленно исчезающую в ночи. Стоял и все никак не мог решиться уйти, и все смотрел туда, в эту глубину, не чувствуя в этот момент ни бесполезной траты времени, ни бремени текущих забот, ни тревог, ни волнений, и так хорошо и спокойно думалось, мысли текли легко, и хотелось бы стоять и смотреть так вечно… Но, наконец, продрогнув, я все же входил в дом, затапливал печку, накидывал на плечи пиджак и, устроившись у тепла, включив настольную лампу, и уже теперь предвкушая, радуясь этой своей несвязанности себя людьми, брал со стола в руки книгу.
А утром в школе урок литературы в девятом классе начинал именно с этого:
«Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои —
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне…
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи:
Питайся ими и молчи.
Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум…»
С субботы на воскресенье первой недели я ездил один на охоту на озеро. И чтобы утром быть на перелете вовремя, я в субботу вечером греб против ветра на дальний конец озера, в наступающую тьму. Дул ветер, нагоняя в тростники пену и рискованно раскачивая на волнах лодку, становилось темно, сходились и нависали над головой тучи, готовилось ненастье. И один на всей бескрайной равнине озера, устраиваясь спать прямо в лодке на воде, посреди островка редкого, уходящего стеблями глубоко в воду тростника, и глядя в нависающие в темноте над головой тучи, когда встанешь в лодке, чтобы бросить якорь, и ощущая на лице редкие отдельные дождевые капли и ветер, я вдруг с тревожным чувством беспокойства и неуверенности, с приближением зловещего ненастья, начинал чувствовать глубинный, первобытный, оторвавшегося от стада животного леденящий сердце панический страх. Когда затерян, заброшен в неизвестности и непогоде, и когда назад, к дому, дороги уже нет: уже поздно, не выплыть в темноте — и ты обречен ночевать на озере под открытым небом в действительности, на самом деле, а не в заманчивых рассуждениях на берегу, вот тогда, здесь, ночью, если даже ты и мог думать до этого, что в состоянии прожить вообще в одиночестве, без людей, наедине лишь с природой и самим собой, своими мыслями и интеллектом, без общения, без любви, понимая, что в основе этих чувств и отношений лежит все-таки всего-навсего инстинкт, которого ты всегда в себе стеснялся, превыше всего на свете ставя разум, и если даже слово «любовь» ты всегда воспринимал с недоверием, а от упоминания об объяснениях в любви приходил вообще в неловкость, зная, что никто из употребляющих это слово — спроси — никогда не сможет объяснить, что оно значит, а значит, и не сможет объяснить и что он чувствует — а что же он тогда вообще говорит? — но употребляет в наивной и безуспешной попытке заглушить этим словом эту никогда не удовлетворимую в себе томительную тоску по бесконечному, в наивной попытке убедить себя самого, что недостижимого все-таки достиг, что обрел наконец в конкретном проявлении, в образе, в женщине, свой абстрактный, смутный, неведомый, никогда не осуществимый и вечно недостижимый идеал. И если даже ты не знал и приблизительно, можешь ли ты кому-нибудь в конце концов отдать предпочтение, и есть ли она у тебя, хоть сколько-нибудь любимая, есть ли вообще, — то здесь, ночью, в одиночестве, затерянный среди этой бескрайности и с приближением тревожного, вселяющего тоску и страх в сердце ненастья, ты готов был отказаться и ото всех своих сомнений и рассуждений, ото всех этих претензий интеллекта, и так стремился к людям, и сразу находил среди них, сразу вспоминал, что у тебя она есть, есть обязательно, да, без сомнения, она, и так хотел в этот момент именно к ней, и только к ней одной, единственной и желанной, и чувствовал, искренне уверен был, что да, любишь, да, навсегда, навечно, на веки веков, и если не объяснился ей еще в любви из-за своих особых соображений там, то объяснялся ей сейчас, здесь, заочно, и готов был кричать в низкие тучи и мрак неба и слово «люблю», и имя своей любимой…