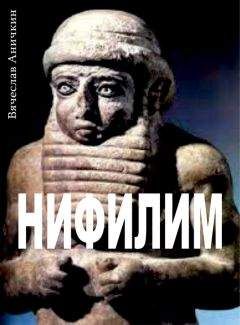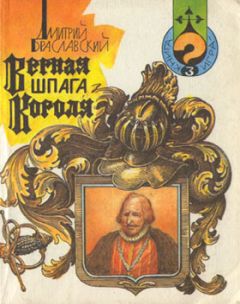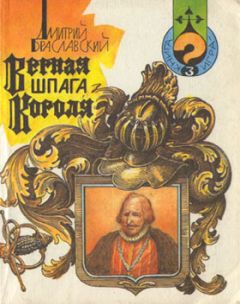И. Ермаков - Заря счастье кует
У Винокурова был этот тихий творческий час. Был потом и широкий сосет.
Итак, слово решения – косить или не косить, валить или не валить – осталось за хлеборобами, хозяевами земли. За Винокуровым же и Смольниковой осталась нелегкая ноша ответственности – партийной и государственной. Они в коллективе – головы.
Девятое сентября. Хлеб чуточку, да не гож под «нож». Пашни у «Колоса» обрамлены повсюду лесами. Больше влаги и тени. Меньше солнца. Здесь бессилеет и остужается теплый сухой ветер. И не поднимается у Михайлы Максимовича рука, чтобы взмахнуть ею, предательски дрогнувшей, зажмуриться и повелеть комбайнерам: «Вали!»
Не поднимается.
Коротка председательская ночь. Да и не ночь вовсе, а четыре действия арифметики. Еще раз, много раз, до мельчайших деталей выверяет он, корректирует тихий свой творческий час.
Не спит и Людмила Андреевна. Здесь своя арифметика. Люди, лица, характеры, доблести-слабости каждого, опыт, умение, здоровье, семейный настрой... Случаются среди ночи звонки. На том конце провода тревожные, беспокойные голоса.
И только двенадцатого сентября, только двенадцатого вышли в поле «ножи». Начали выборочно. Через день перешли на массивы. Через шестеро суток на площади 3325 гектаров пшеница лежала в валках. За шесть суток (не путать с днями) «Колос» подмял, обогнал, оставил на «собственноличном хвосте» остальные хозяйства района и взобрался по косовице на первую «красную» строку. 97,5 процентов! 2,5 – семенные участки и поздний овес. Оки косятся. Позабыты и баня, и бритва, и праведный сон. Председатель однажды (подкачал «Москвичом») погнал по участкам на красной пожарной машине. Выл изловлен инспектором Госпожнадзора. Товарищ грозился оштрафовать. Листал инструкцию...
– А у меня и в самом деле пожар, – радостно скалил зубы Михайло Макснмыч, обводя широким намахом руки рокочущие, грохочущие, возгудающие, дымящиеся от пыли, солярки и мелкой половы поля.
– Пожа-а-ар, братушко-о-о... – пропел боевым петушком почему-то в румяное ухо инспектору председатель, тряхнул ему плечи, и озорной, по-мальчишечьи верткий, вскочил на спецтранспорт и помчал на «пожарнице» дальше.
Первое зерно. Тяжелое, янтарное, мускулистое, вызревшее... Не зерно, а картечь. Засыпай поверх пороху и по гусям-казаркам пали!
– Машин нам, машин нам! Любых самосвалов! – стонает, звонит и стучится повсюду Михайло Максимыч. – Тока загрузил – арараты! Комбайны на поле стоят под завязку с зерном...
Бригадир Дербеньского производственного участка Шааф Богдан Богданович позднее в заметке «Наша выстраданная победа» писал: «...При обеспеченности транспортом механизаторы работали до двух часов ночи. И как же обидно, когда среди погожего дня комбайны часами простаивали в ожидании машин. Душа болит...».
Болит, видимо.
Двадцать третьего сентября видел я председателя на районном активе. Он весел и бесноват от веселости. Брызжет энергией. Радостно возбужден. Молодцевато хромает по коридору. Чуть куражлив и чуточку хвастлив.
– Машин нам, машин!! Наш хлеб исть можно. Баб ромовых можно пекчи, Девкам пряники... Помогите машинами.
Про «баб» и про девок отнюдь неспроста... «Шприц» коллегам, что вывозят на элеватор «сморщенную зелененькую кикимору». Семян просят у Винокурова.
– Посмотрим на ваше дальнейшее поведение, – подмигивает Винокуров.
Тридцатого сентября «Колос» выполнил план-задание по сдаче зерна государству, а через пятеро суток (не путать с днями) в хозяйстве был обмолочен последний валок.
ОдолениеЗвонко бьет поутру в наковальню кувалда, сладок сон поутру человеческий.
– Вставай, сынок... Заря счастье кует! – будили крестьянские матери в страдную пору своих младопахарей. – Воспрянь, сынок, с перепелочкой...
– Заря счастье кует, заря годы дает, сон – смерти брат, – вторили матерям, хрустели суставами и самоей своей грудью их вещие, мудрые деды.
– Хлеб на стол, вот и стол – престол! – разрезали старинушки молодым жнецам теплый подовый каравай...
Да... Под самые вздохи-белони Михайле Максимычу было ударено.
В том, 69-м, 500 гектаров отличной пшеницы отправил «Колос» под снег.
Скреб и драл свои бывшие русые кудри Михайло Макснмыч. Ведь каких-нибудь пару погожих деньков – и управились бы. В закромах был бы хлебушко! Да откуда их взять, где добыть и с какой базы выписать эту пару погожих деньков! Весной, правда, обмолотили валки. Восемь центнеров дал подснежный гектар. Размололи перезимовавшее в поле зерно, выбрали самую жоркую свинью... Ничего. Жива кумонька. Во благоутробие пошло. Жрет да благодарственно хрюкает. Но все равно... Не на стол пошел хлебушко, а в корыто. В графу под названием «Привет поросенку».
– Ох, шатун ты медведица! – клял сибирскую осень Михайло Максимыч.
И все-таки разыскал, разыскал он ту пару погожих деньков!
Вспомнил, с какой прохладцей, с каким благодушием принимались в тот год за уборку: с дремотой, с перекуром. Позабытым осталось суровое, словно команда «в ружье», старинное русское слово – страда. Страда – и прямой становился горбатым, страда – и горбатый являлся прямым.
А вспомнить Некрасова...
Баба порезала ноженьку голую,
Некогда кровь унимать...
Закат солнышка определяли, глядя на серп: перестал или нет пускать «зайчиков». Хлеб, живой хлеб обнимала живая ладонь...
Сейчас машины. Могучие, умные и безустальные машины. «Не от них ли нисходит на нас благодать! – задумывается Михайло Максимович. – Сладкогубая этакая подремотка. Обнадеянность. Мол, все могут! Могут, конечно, ежели человек…»
Да. Человек и комбайн – в поле воины. Краснодарский механизатор, приехавший на уборку в Сибирь, подсчитал: он намолотил столько хлеба, что хлеб этот за год действительной службы не съесть современной дивизии. Разве это не силища – человек и комбайн!! Но всегда ли и в каждой ли механизаторской душеньке жив тот тревожно-набатный порыв одоления, личной отмобилизованности, совестливого непокоя поспешения на зов отягченного колосом поля! В страду не день принадлежит человеку, а человек – дню. Живой хлеб сберегают, спасают ладони твои. Он – могущество Родины, а ты ей присягал. Он – румянец и мускул родного народа. Оцени же себя, человек! Взвесь в себе два различных глагола: «могу» и «могу».
Выйди парни с таким вот настроем на ту, снегом битую, жатву – нашлись бы они, два погожих денька. Три нашлись бы!
«Маху дал ты, Михайло Максимыч... Не встревожил парней, не ударил в набат».
Хорошо, что урок пошел впрок.
Как дотошно, придирчиво принимают механизаторы вышедшие из ремонтных мастерских «Сельхозтехники» трактора и комбайны. Носом – в каждую щелочку, пальцем – в каждый зубок шестеренки. Молодцы. Ведь бывалое дело: комбайн, числящийся до уборки в «ножах», после третьего круга, оказывается, даже и не в «серпах» – в дураках. Хлеб стоит, и гора железа стоит. Не позорище ли! Не отменнейшее ли головотяпство! Не лора ли хозяйствам заручаться гарантийными обязательствами «Сельхозтехники» на отремонтированные в ее мастерских машины и в случаях несостоятельности, недобросовестности, когда, как говорят, сделано «на соплях», «на живульку», предъявлять этой уважаемой организации материальные санкции! Хватит шутить с урожаем. Преступно с хлебом шутить.
Комбайны у «Колоса» были тщательно загерметизированы, обкатаны, опробованы на малой страде – на горохе и ржи. Опробованы в скоростях, в диапазонах нагрузок, шла «пристрелка», примерка к грядущей «пшеничной страде». За любые пятнадцать минут, «крайний срок – полчаса», как докладывал Винокуров, его козырные «ножи», словно бы по сигнальной ракете, готовы и жаждущи были вонзиться в хлеба и по двадцать часов в календарные сутки не укладывать в ножны свои лезвия.
«У нас двадцать семь ножей»,– потрясая «холодным оружием», защищал Винокуров «дитенка зеленого» – хлеб.
«У нас двадцать пять коммунистов»,– ставила в этот остро отточенный ряд Людмила Андреевна Смольникова двадцать пять нацеленных и отмобилизованных человеческих воль.
Опытнейшие механизаторы, они с первого круга повели за собою бывалых, умелых товарищей, ободряли и опекали зеленую молодежь, вставшую первый сезон за штурвал, они первыми зажигали (идем в ночь) подсветы и фары и последними выключали мотор. Двадцать пять отмобилизованных, нацеленных, словно лезвия, воль – они-то и взгорячили и сотворили тот страдный и упрямый настрой, когда каждому жаждалось, звалось отдать хлебу силу, полсилы, еще четверть силы, да еще разыскать в себе силы на круг.
...Вчитываюсь в строки постановления ЦК нашей партии «О дальнейшем улучшении организации социалистического соревнования» и ухожу памятью в тот нелегкий и грозный «колосовский» сентябрь. Какую же, воистину, неодолимую силищу, какие подспудные резервы человеческого «могу» способна вызвать к жизни ревнивая, честолюбивая, высоконравственная атмосфера соревнования!