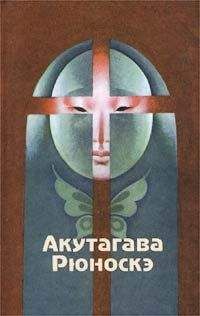Михаил Гиголашвили - Экобаба и дикарь
— Да этот Курт. Я думаю, с ним тебе будет неплохо. Интересный парень. Химик. Еще студент, а уже на BASF^ практику сделал. И деньги, кстати, имеет, не то что твой нищий. И, главное, немец, своя кровь — хоть из бывшей ГДР, правда. Веселый, высокий, общительный, что еще надо?.. По мне — так у мужчины должны быть большие руки, густой голос и толстый член — и все! — Ингрид прихлопнула сумкой по столу так, что официант мотнул головой от неожиданности, а парни за соседним столом замерли. — Да что ты думаешь, твой зверь сейчас один сидит? Небось привел к себе кого-нибудь. А ну позвони, узнай, где он. И если он хочет ссориться
— то и ты не будь дурой, своих позиций не сдавай, нет — так нет, и все, чао, мио Гио!..
— Тебе легко рассуждать со стороны.
— Ты что, любишь его, что ли? — презрительно сморщилась Ингрид. — Вот от этой глупости и все несчастья идут! Держи себя в руках!
— Зачем?
— Как зачем? Чтобы быть свободной!
— Но ведь любовь — это свобода? — нерешительно возразила я.
— Что? — взвилась Ингрид. — Любовь?.. Да это для нас самое губительное — любовь!.. Тут-то ты и в капкане, как мышь на сыр попалась! Любовь — это тюрьма, и больше ничего!
— Вот и он так говорит, — вспомнила я.
— Он вообще неплохой парень, если б не действовал на нервы. Вообще-то, конечно, мужик должен быть немного мачо, но не такой злостный, как он. Пожалуйста, счет!
На улице мы привычно пошли в ногу, пересмеиваясь и вполголоса обсуждая «фактуру», что попадалось по пути.
— Не пора ли нам развлечься? — спросила Ингрид, искоса поглядывая на меня.
— Мы давно никуда не ездили, милочка.
— Нет настроения.
— А вот это тоже неправильно: надо начать, а потом и появится. Аппетит, сама знаешь, когда приходит.
Иногда мы устраивали себе разрядки — ехали вдвоем на ночь в какой-нибудь большой город, шли куда-нибудь на диско, кокетничали, флиртовали, веселились. Бывало, доходило и до постели. Удовольствия большого я не получала, но Ингрид утверждала, что такие вылазки идут только на пользу — лишь о презервативах не забывать, а я больше молчала, вспоминая бабушку, которая учила не только честности, но и гордости.
И сколько бы Ингрид ни доказывала, с синим блеском в глазах, что эти встряски полезны для души и в особенности для тела и с гордостью ничего общего не имеют, я чувствовала смутную вину. Это прилипчивое ощущение отклеивалось долго и медленно, исчезало постепенно, через несколько дней, во время которых я затихала на работе, а дома не брала трубку, слушала музыку и старалась не думать ни о чем.
Чаще всего эти одноразовые встречи проходили глупо, суетливо и бестолково (хотя бывали иногда и сильные ощущения). Во время этих вылазок я одновременно и трусила немного, и испытывала любопытство, как все произойдет. Однако явно чувствовала при этом, что партнеры на одну ночь относятся ко мне без особого уважения. Да и за что уважать?.. Они, очевидно, думают, что они меня выбирают, а на самом деле это я — их.
Но все это действовало на нервы. Я не раз давала себе слово больше с Ингрид не ездить, но та улещивала, умасливала, и все повторялось вновь. И после всего этого так комичны глупые претензии варвара — где была и что делала. Если б он знал всю правду!..
На что он вообще рассчитывает? Я не его жена и замуж пока не собираюсь, — неприязненно думала я, вышагивая рядом с Ингрид и ловя на себе взгляды мужчин — то быстрые и скрытные, то наглые и откровенные. — Никто ничего никому не должен. И никто не обязан давать отчеты. И неправа Ингрид, призывающая умалчивать и скрывать. Зачем?.. Лучше сразу все ставить на свои места. Мы же условились с ним, что мы — свободные люди и честно говорим друг другу обо всем. Чтобы не лгать, не юлить, не обманывать и в дурацкой роли не выступать. Он, конечно, обо всех своих историях молчит, как рыба на допросе, хотя я точно знаю от общих знакомых, что у него были женщины в мое отсутствие (а может, и при мне). Но я сама никогда не ревную — еще чего не хватало, я даже не знаю, что это такое — ревность. Я эту глупость никогда не испытывала, это ниже меня. Может, я эгоистка? Зверь ругает меня иногда за эгоизм и называет носозадирал-кой. Нет, как это он говорил: носодерка?.. Носозадирка?.. Носозадралка? Это от глагола задирать-задрать, но вот от какого из них?.. А, всё равно… А кто он сам, если не самый большой эгоист?.. И пусть он вообще покажет какого-нибудь не эгоиста, есть ли такие на свете?..
Ингрид начала тянуть в Клуб № 1, там сегодня что-то должно быть, но я устала: побаливала спина, кружилась голова, я плохо себя чувствовала перед месячной напастью и упросила Ингрид оставить меня в покое и отвезти домой.
— Дурочка! — сказала она и неожиданно поцеловала меня в губы долгим поцелуем, чего я терпеть не могла.
4
От трамвая он плелся по слякоти, а душа его была перемещена куда-то в иные дали. Открывая дверь, он услышал звонки телефона, бросился внутрь, но не успел. «Она?»
Он плюхнулся в кресло. Покосился на телефон.
Нет, сейчас он будет умнее. Когда ее любовники докатились уже до порога, надо взять себя в руки и избавиться от ведьмы! — думал он, без интереса разглядывая доску, на которой была выложена мозаика из камешков, залитых эпоксидной смолой. Это были стены крепости. За ними должна была появиться башня из алюминиевых брусочков, собранных однажды на свалке. Где-то в дальнем ящике за шкафом они должны быть.
Но как же бросить её?.. Он попытался вспомнить что-нибудь злое и смешное о ней, но, как назло, вспоминал, как дрожат ее веки и пальцы бегают по одеялу. Хотел думать: «Высокомерная дура!» — а видел свечу, и волосы распущены по плечам, а сама похожа на фею… Ведьма?.. Фея?.. Где ты сейчас?..
Уложив доску на пол, он стал класть на неё брусочки и двигать их так и этак, чтобы поймать контуры башни.
Потом, почему-то воровато оглянувшись на дверь, быстрым движением сорвал трубку и набрал номер. Голос бы услышать… Но никто не ответил. Он посмотрел на часы. Было далеко за полночь. Он беспомощно опустил руки, почувствовав отвращение к самому себе. Опять темные мыслишки закопошились в нем: «Задушить гадину — и всё. Избавлюсь от ведьмы. Дадут лет шесть… Тут много не дают… А еще лучше — неосторожный случай, упала на голову ваза… У нее есть одна такая, из Франции привезена, где она с этим, обезьяной из Габона. Нет, ее следует помучить перед смертью, всё ей напомнить, все унижения и обиды, что терпел от нее…»
Вдруг один брусочек впился ему в палец. Закапала кровь на доску. Он тряпкой зажал руку и тупо смотрел, как кровь втапливается в свежий клей. Отнял тряпку и стал держать руку над холстом. По пальцу потекла красная струйка крови. На доске заклубились, завихрились красные прожилки.
Тут внезапно озарило:
«Зародыш любви — вот что надо убить. Эмбрион уничтожить! Как это доктора говорят — извлечь причину несчастий и удалить. Причина — любовь. Значит, аборт души».
Он должен ее бросить. Бросить. Вырвать. Выбросить. Это и есть выход. Вырвать из души. И самому оторваться душой. Отплатить той же монетой. А любовь перенести в другой сосуд, в другую женщину. Недаром говорят, что у мужчины должно быть хотя бы две женщины: здесь оскудеет — там зачерпнешь, здесь замутится — там чистого напьешься.
Любовь — в мусорный ящик. Горечь и желчь постепенно утекут, не могут не утечь — уже бывало, она не первая, с кем приходилось испивать чашу до дна. Поэтому пить ее надо спокойно, с максимальным выигрышем. А потом, когда время наложит свои повязки, можно будет со злорадством и насмешкой вспоминать эти смехотворно-глупые мучения. Но тогда он уже будет свободен от этой напасти, немочи…
Он взял палочку и принялся ковыряться в клее. Кладка стен побурела, пожухла под кровью, застывшей в клее причудливыми струйками.
«Абсурд! Как любовь может быть напастью?.. И как же тогда слова Варази о том, что художник должен всё любить?»
Авто Варази, уже в делирии, в глубоком делирии, в голой квартире, где ничего не было, кроме столика, шатких стульев, мольберта с засохшими красками, сидя по-турецки на грязном лежбище, говорил им, студентам Академии:
«Художник, если он еще не подох, должен всегда что-нибудь любить. Всё время и всегда! Солнце, женщин, реки, собак, краски, кусок хлеба, курицу, чайник — но любить! Если художник не любит — он мертв. Любящий отдает — все остальные только берут!..»
Жил он один, без семьи. Последние годы пил, ничего не рисовал, только изредка складывал предметы в странные кучки. В его квартире надо было быть осторожным — любой ботинок, тряпка или черепок мог оказаться заготовкой к объекту. Студенты приносили ему еду и вино.
«Бабу рисуешь — влюбись в нее! Пейзаж пишешь — его люби! Чайник рисуешь
— чайник люби!»
«А как надо: нарисовать чайник и потом полюбить, или, наоборот, вначале полюбить, а потом нарисовать?» — дурачились они, мигая на закоптелый объект споров (другой утвари в квартире уже не было — последняя сковородка с написанной на ней глазуньей была прибита к стене).